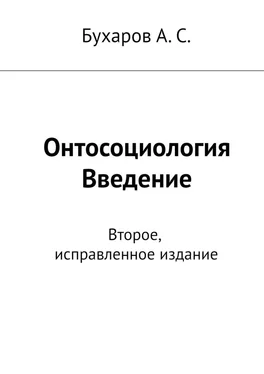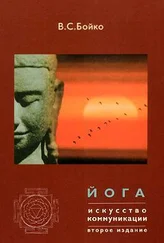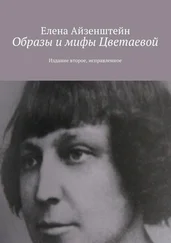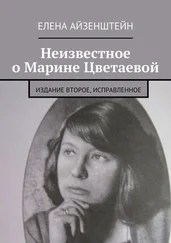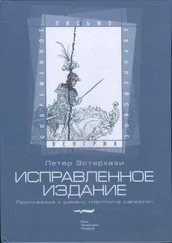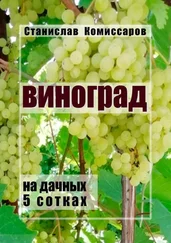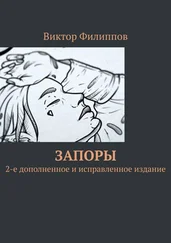Отправным пунктом каждого из сложившихся в этих рамках и в различной степени консолидированных течений теоретической мысли являются некие исходные представления о человеке и его мире. Эти представления и их различия легли в основу существующих концепций феномена «социального», его природы, строения, способов существования, изменения и связи образующих его и образуемых им явлений. Утвердившаяся в науке парадигма социального исследования в наиболее общем виде определяет его искомый результат как знание, выявляющее эмпирически верифицируемые регулярные зависимости совместного человеческого существования и его упорядочения. В этом контексте задачей социальной теории оказывается выяснение неочевидных оснований этих зависимостей, мер, порядка и процесса их взаимосвязи. Усилия, направленные на решение этих и сопутствующих им проблем, дали целый ряд ценных наблюдений, теоретически продуктивных результатов и, более того, оказали глубокое воздействие на историю и образ жизни людей. Тем не менее, и сегодня, несмотря на все бесспорные обретения пройденного интеллектуального пути, основные вопросы, вновь и вновь возникающие в рамках этой общей задачи, все еще ждут своего научного решения.
Целью настоящей публикации является посильное содействие уяснению и конструктивному решению, прежде всего, тех из них, которые в наибольшей степени связаны с ключевой проблемой теоретического социального знания, состоящей, в конечном счете, в кризисе метода построения общей социальной теории . Основу предлагаемого подхода составляет уточнение и развитие ряда представлений о феномене и процессе человеческой деятельности, содержащихся в классической историко-социологической традиции конца XIX – начала XX вв.
Глава 1
Теоретическая проблематика социального знания
Очевидно, что истоки большей части концептуальных затруднений, свойственных движению общественно-теоретической мысли, следует искать, прежде всего, в самой природе и исключительном своеобразии объекта социального исследования. Вместе с тем, не менее существенным препятствием в их преодолении оказываются, как нередко бывает в науке, уже полученные ею результаты и, особенно, их утвердившиеся интерпретации, специфика самого процесса образования социального знания. Несовместимость его отдельных ракурсов и фрагментов, разрозненность их масштабов, логики и языка исторически были и остаются узловой проблемой общей социальной теории, призванной непротиворечиво выразить многоликую определенность мира человека и обнаружить ее законосообразную связь с его самосознанием, совместной деятельностью людей и их жизнеустройством.
Дихотомия изначальных и, в целом, принимаемых всеми основными течениями теоретической мысли онтологических определений феномена «социального» – человека и его мира в их связи – исторически образовало дихотомию наиболее устойчивых и преобладающих в ней представлений об основаниях и пределах социокультурной реальности, их взаимодействии и движении. В центре этих представлений неизменно оказывается человек, его свойства и влечения, его идеи, действия и поведение в их связи с поведением, действиями и идеями других людей в контексте разделяемых и совместно творимых ими общественных установлений, материальной и нематериальной культуры. Однако столь же неизменно теоретическое сознание, исследующее эту связь, воспроизводит и традиционную дихотомию ее объяснений, служащую основанием большей части внутренней проблематики и источником едва ли не перманентного кризиса социальной теории.
В рамках первого из основных исторически сложившихся концептуальных толкований социальных явлений общественный человек рассматривается преимущественно в качестве объекта и продукта, в конечном счете, определяющей его внешней реальности. Второй подход, напротив, рассматривает реальность мира человека, историю, общество и культуру в качестве, прежде всего, осуществления и продукта воли и разума, страстей и жизненных потребностей, интересов и заблуждений, не сознаваемых и рационализируемых устремлений, согласованных действий людей и их конфликтов. В этом случае определенность окружающего человека мира предстает лишь в качестве некоего повода и антуража непосредственных человеческих взаимодействий и взаимных индивидуальных ориентаций.
Разновидности этих исходных теоретических представлений возникали и продолжают возникать по мере выявления различий во взглядах на то, что именно и каким образом в самом человеке и его мире обнаруживает и преобразует феномен «социального». В зависимости от ответа на первый вопрос выделялись основания «существенного» в явлениях и движении реальности мира человека, что, тем самым, вело к ее соответствующему мысленному разграничению, субординации или игнорированию всего полагавшегося «несущественным». В свою очередь в рамках второй части проблемы выделенные абстракции начинали восприниматься в качестве относительно адекватного выражения взаимно опосредующих и в разной мере друг друга определяющих структурных компонентов социальной реальности и процесса ее поступательного, цикличного, или циклично-поступательного метаморфоза, генезиса, эволюции и распада. Как следствие мысленно абстрагированная модель «социального» рассматривалась как та или иная совокупная и наделенная определенным набором свойств форма соединения и совместного движения ее инфра- и суперструктуры. В свою очередь этот процесс мог представать и в виде последовательной трансформации структуры исходного состояния их связи в некое иное, самопорождающее, модифицированное и производное качество.
Читать дальше