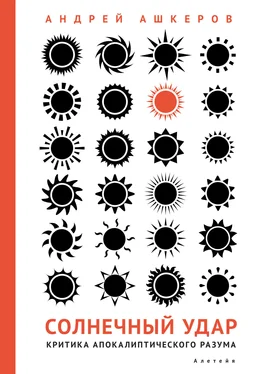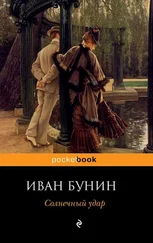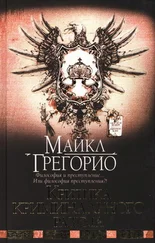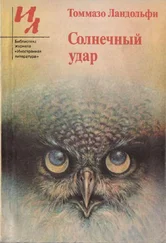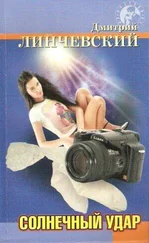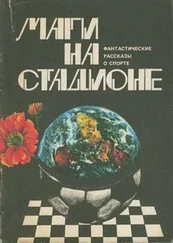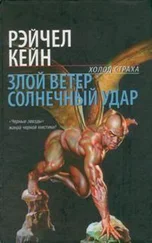Сетевое общество стерло границы между умом и трудом под знаком превращения отложенного существования/спасения во всепоглощающее имманентное заэкранье виртуального мира, за которым маячила «сеть» как невиданное прежде единство вещей, знаков и отношений. Всемирный карантин дополнил дело тем, что «дополненная» или «прибавочная» виртуальная реальность, висевшая как довесок той реальности, которая никогда не наступит, раскрыла то, что и так было ясно про нее с самого начала.
Перестав казаться инструментом расширения сознания/ освобождения труда, виртуальность стала местом принудительного интернирования со всеми атрибутами репрессивно-дисциплинарного воздействия. Превратившись в актуальный эквивалент светлого будущего, приблизив его на минимальное расстояние толщиною в экран, виртуальная жизнь полностью избавила человечество от исторических альтернатив, которые исключали бы ее вечное царство.
Пандемия сделала территорию виртуальной жизни «землей обетованной», однако стерла все грани, отделявшие ее от самой известной древней тюрьмы – пустыни. Теперь пустыня уютно расположилась в домашнем пространстве. Параллельно, как это уже бывало в рамках генеральных репетиций ситуации-2020, произошел обвал рынка углеводородов.
Невиданное затоваривание нефтью, падение цен на нее и, как следствие, сокращение добычи черного золота имели отношение не столько к состоянию сырьевой экономики, сколько к спекуляциям на рынке объективностей. В мире, организованном вокруг двигателя внутреннего сгорания, вещи сводятся к стоимостям, а стоимости сводятся к углеводородам, заменяющим субстанцию в мире, где не осталось места для субстанций. В свою очередь, рынок объективностей управляет системами объективации, с которыми соотносятся «объективные» факты, закономерности и детерминации.
Поэтому если мы и наблюдаем сегодня какое-то банкротство, то это не банкротство нефтяного рынка, а банкротство строгой науки, форпостами которой были статистика, генетика, микробиология, медицинская физиология и экономическая теория. Все они удерживали объекты в только им подобающих границах. Все они сводили объекты к разрывам, полостям и зияниям. Обращает на себя внимание, что отцом практически всех перечисленных наук считается Аристотель.
Аристотель же является и тем, кто за две с половиной тысячи лет до Ясперса предложил свою версию осевого времени. Правда, известна она главным образом по пересказам несохранившейся работы «О философии», в которой философ из Стагир утверждает, что человеческий род неоднократно погибал во всех вселенских катастрофах [4] См. об этом: Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М.: Прогресс, 1988. С. 89.
, последней из которых был Девкалионов потоп, в результате которого сын Прометея Девкалион стал новым родоначальником человеческого рода.
По мысли Аристотеля, как бы ни отличались друг от друга поколения человечества, общество, в котором организуется их совместное бытие (греки одним словом называли его «синойкизм»), всегда проходит одинаковые стадии развития. Первой из них соответствует изготовление орудий, второй – создание художественных творений, наконец, третьей – продуцирование самой полисной жизни, которая, как видно, возникает из единства производства и искусства [5] Делез и Гваттари противопоставляют стадиальности, неизбежно ведущей к древовидной генеалогии, корням и стволам, травянистую («ризоматическую») историю. Эта история, избегая дуальностей, является историей, в которой «ни один третий не лишний». По мнению авторов «Капитализма и шизофрении», растущая как трава история пробивается посредине и между вещей, спутывает генеалогию, как будто бы генеалогия держится на причинности, которая ведает соподчинением вещественных форм. Отправляясь, вслед за Генри Миллером, на поиски травяной модели истории в Китай, Делез и Гваттари вскоре разочаровываются в этом, соблазняясь более «ризоматической» Америкой. В итоге они все равно обращаются к становлению как производству бытия, то есть ко все тем же грекам, к полисной жизни и к Аристотелю как наиболее последовательному ее выразителю (это хорошо видно по поздней работе Делеза «Что такое философия»). При этом достаточно очевидно, что Аристотель пестует не «ризому», а «исток». Поэтому походы за сорными травами истории оборачиваются обычной «прогулкой лесом», среди все тех же стволов и корней.
. Вместе с полисом на третьей стадии неизбежно возникает и «мудрость». Появление ее и есть эквивалент осевого времени, которое повторяется ровно столько, сколько возрождается человеческий род.
Читать дальше