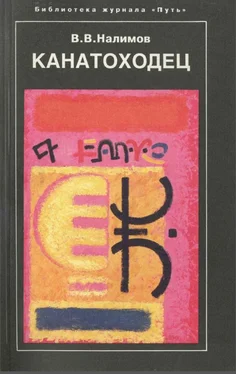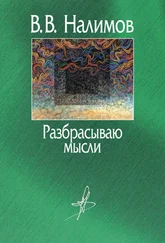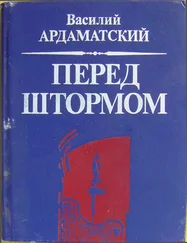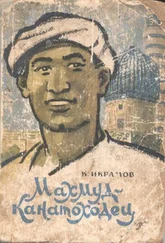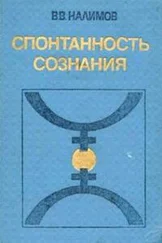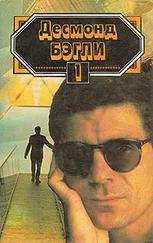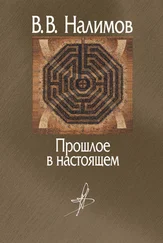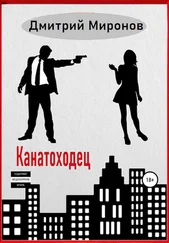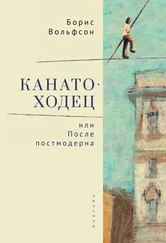Позднее в науке, как Солонович в мировоззрении, на меня повлиял А. Н. Колмогоров, о чем я пишу в гл. XIII.
Темы, упомянутые в последнем абзаце, рассмотрены мною в ряде статей. Сейчас эти статьи изданы в книге под названием В поисках иных с м ы с л о в [Налимов, 1993].
Отмечу, что познавательную роль науки я в каком-то необычном, правда, смысле признаю. Здесь надо учитывать два обстоятельства: (1) наука, в плане познавательном, несомненно, ценна тем, что она разрушает предрассудки, заданные нам поверьями прошлого или наивными представлениями так называемого «здравого смысла» (об этом, кстати, часто говорил и Солонович, но в уцелевших тетрадях эта тема не обсуждается); (2) наука в многообразии своих гипотез, посвящаемых одним и тем же темам, расширяет горизонт аргументированного незнания , что является на самом деле высшей формой знания.
Так мы подходим к созерцанию Тайны мира, не пытаясь раскрывать ее вульгарно.
Английское издание посвящено А. А. Солоновичу — это зафиксировано на отдельной странице.
С детства Ион Иоффе следовал за своим старшим братом, был увлечен идеями анархизма и умел эту настроенность передавать другим. Осложнялась ситуация, видимо, тем, что он был не столь одарен как его брат, и это, возможно, вызывало скрытое противостояние. В 1934 г. из Каргасока приехал человек, освободившийся из ссылки, с приветом от Шаревского. Приехавший, видимо, был тайным осведомителем, и тут, возможно, завязался какой-то малопонятный узел.
Примечательно то, что меня дважды предупреждали. Один раз студент из того же института, где учился Иоффе. Предупреждение без разъяснения. Другой раз — бывшая наша домработница, тогда пенсионерка, жившая в нашей же квартире, говорила мне: «Что ты, Вася, встречаешься с ним, ведь он же предаст тебя». И я опять не прислушался к вещему голосу.
Позднее мне передавали, что он тут же после нашего ареста зашел к нам домой. Отец, увидев его, сразу все понял. Он, не сказав ни слова, удалился, смущенный и растерянный. Но дело было сделано. В архивных материалах есть указание на то, что он сфабриковал не одно такое дело.
Отметим, что вдова П. Кропоткина по принципиальным соображениям отказывалась от государственной пенсии.
Помню, что одно время в камеру приносили папиросы, присылаемые «Красным крестом».
В основном это были издания «Голоса труда». Помню, что магазин этого издательства в Охотном ряду существовал еще до конца 20-х годов.
Следствие в основном вел Макаров. Он действовал вполне профессионально — заранее отрепетированный набор вопросов и стандартные формулировки ответов. Сейчас, когда читаешь протоколы допросов (в архиве), создается такое впечатление, что все допрашиваемые говорят на некоем стандартном языке, независимо от того, признают или отрицают они предъявляемые обвинения. Начальство, видимо, вполне одобряло такой порядок записи: за ведение допросов Макаров получил в петлицу первую звездочку.
Иногда на короткое время появлялся следователь Голованов. Он, в отличие от Макарова, всегда был в штатском. На его допросах иногда звучали и философские ноты. Мне он, скажем, говорил: «Вы стоик, потому от вас ничего добиться нельзя». У меня сложилось впечатление, что он был не рядовой следователь, а лицо, наблюдавшее за ходом дела.
Списание — требование сокамерников отчислить кого-либо из заключенных за какую-нибудь провинность. Каждая камера отвечает за поведение сокамерников в целом. При этом у нее есть право отчислять непослушных. Списанного в другой камере принимают крайне недружелюбно.
Тогда еще существовали отдельные камеры для членов правящей партии. И здесь, в тюрьме, были привилегии. Это и значило тогда, что все равны, но одни равны больше, чем другие, даже в тюрьме. Принцип большевистского «равенства» соблюдался везде.
Попросту это звучало так: осужден за контрреволюционную деятельность, что обозначалось индексом КРД. Здесь существенен не только срок, но еще и его качественная окраска. Троцкисты осуждались по индексу КРТД, что было значительно серьезнее при том же сроке.
Часть участников этого дела прошла по Военной Коллегии Верховного Суда, но об этом разговор пойдет позднее.
Вот список оказавшихся вместе: С. Р. Ляшук — математик, П.А. Аренский — театральный деятель, Г. В. Гориневский — архитектор, Б. В. Коростелев — сотрудник ЦАГИ (его все сторонились). Из нашей молодежной группы, кроме меня, были: Ю.(Г.) Проферансов — геолог и И. Брешков — учитель.
Читать дальше