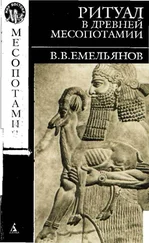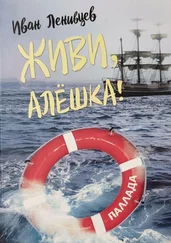Блаженное действо в апрельском потоке
так быстро идёт, а порою летит.
И в мир заоконный, чужой и далёкий
из рая придётся вот-вот выходить…
Наталии Воронцовой
Одни могут только любить и лелеять,
вторые – дарить лишь безжалостный секс,
а третьи – корыстничать, будто бы змеи,
иные – страдать, как актрисы из пьес,
другие – рожать, как в селе свиноматки,
шестые – по-свински, бесправедно жить,
седьмые – стоять у плиты, шить заплатки,
восьмые – лишь жалобно блеять и ныть,
девятки – бесплодничать, будто бы кружки,
десятые – требовать лучших даров,
инакие – рабски сидеть у кормушки,
а дюжины – верить в бумажных богов…
Они таковы. Их печатные толпы.
Бабьё – манекены в духах и пальто.
Штамповки. Немытые банки и колбы.
Я – сумма их всех, а порой я – никто…
Мне плохо живётся в отравленной почве,
где камни, металлы и черви людей,
удушливый смог и могильные мощи,
гнилые отростки голов и идей,
мыслишки-окурки, раздумья-опилки,
унятая прыть в перегное веков,
мертвецкие лица, сухие затылки,
овалы зарытых, скелетных венков,
пороки, срастившие тяжкие сети,
греховные связи и падальный быт,
родители-мухи, опарыши-дети,
асфальтные реки, но некуда плыть,
кирпичики серые, будто бы мыши,
дерев корневища и ветки рогов…
И всё это движется, будто не дышит!
Мне хочется в небо, где нет никого…
Две комнаты тихо-прохладны.
Не топлена старая печь.
Одежды стары, не нарядны.
Из глаза рассольная течь.
Пристыли мозоли к ладоням,
натоптыши – к пяткам, стопам.
Живу, как лягушка, в затоне.
Не верю иконам, словам.
Вся скрючена тяжкой судьбою.
Без целых костей, без зубов.
Была магаданской рабою
с ужасных тридцатых годов.
Поганы свобода, неволя.
Сипит и чуть кашляет дых.
Живу бессемейною долей.
Лишённая лет молодых.
Владелица выпавшей матки
от лагерных тягот и мук,
бетонной и каменной кладки,
погрузки бревенчатых штук.
Под кожей скопленья болячек,
потерь, изнуренья, невзгод,
обид, метастазов червячных,
прокисших желудочных вод.
Анальная трещина с кровью.
Душа безутешна, полна.
Не встретилась в жизни с любовью.
И в банке пилюля одна…
В паскудный мир был выдавлен из чрева.
Пронёс в себе тот первородный грех
с больной душой, сердечным перегревом,
храня на коже очень бедный мех.
Тоска ума гнала от толп в каморки,
и оттого, живя в них день за днём,
я избежал любви, войны и порки,
познанья женщины, побоев за углом.
Внимал огулом фильмам и страницам.
Свои стихи я прятал в тайный ларь.
Людей читал по полуслову, лицам,
и безошибочно давал диагноз – тварь.
Я был затворником, почти самолишенцем,
бежал и прятался от праздников и вин,
хранил от радостей ранимейшее сердце,
боясь любви, трагедий и крови.
Страшился стать похожим на сограждан,
от коих я стремился с малых лет,
и сторонился их надменно и отважно,
чурался вдруг впитать плебейский цвет.
Себя берёг, спасался от планеты,
порой за роды мать с отцом виня.
Но гарь и грех, отравы, зло и беды
входили в щели и вошли в меня.
Я весь в сети бродящих метастазов,
как рыба-кит, изловленный горбун,
измучен я от низа и до глаза,
и ждёт меня смертельнейший гарпун…
Снаряды легко углубляют окопы.
Стрельба пробивает до мозга костей.
Удары всё рушат, кромсают и гробят.
Лихой артиллерии нет уж страшней!
Кромешная гарь средь огней и разрывов.
Осколки, как будто стальной снегопад.
Ни в ком нет ума и геройских позывов.
Безумие, ужас, убийства, разлад.
Вздымания туш и земли в мясорубке.
Земельно-машинно-солдатская смесь.
Пятнадцать минут, словно жуткие сутки.
Калибрами правит неистовый бес.
Тут молнии, грозы и град ненавистны.
Всё режет зубчатый и пламенный серп.
Обстрел может кончить невинные жизни.
Под шквалом горит, погибает резерв…
Наверное, может, скорей, вероятно,
дворянка – легат от ковровых богов,
явившийся тихо, забавно, приятно
в край ярких материй и тканых основ.
Явилась она, как Жасмин к Алладину,
взиравшему в суть стихотворных глубин
во чреве вечерних теней магазина,
искавшему золото строк меж рутин.
Читать дальше