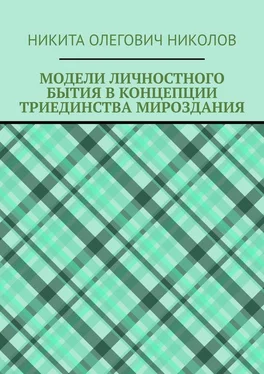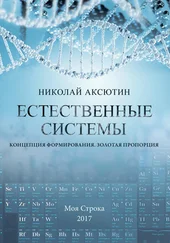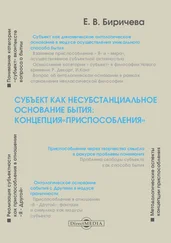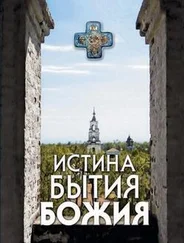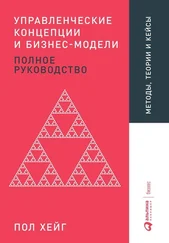Абсурд, как нелепость, «являемая почти случайно в обобщении понятий по признакам ситуаций и структурам интеллекта, и которую ум делает достоверными и правдоподобными рассуждениями личности» 97, трансформирующих часто образы эстетики безобразного в правдоподобные образы эстетики прекрасного в объёмах первой рефлексии сознания людей.
Регулятором при этом распределения раскрываемой мыслеформы (осознание мысли – это мыслеформа) является лаборатория творчества мысли и смыслов либо в объёме одномерного квазиалфавитного плана (все идеографические языки), либо двухмерного алфавитного плана, либо азбучного плана триединства мироздания (русский язык).
Мыслеформы абсурда, а не парадокса фактически являются итогом творения и раскрытия мысли в пределах лабораторий творчества новых смыслов в объёме одномерного квазиалфавитного плана и двухмерного алфавитного плана (все 24 европейских языка). Данные продукты творчества новых смыслов, к примеру, характерно представлены в постмодернизме, который явился итогом развития последовательности: концептуализм – модернизм – постмодернизм. Постмодернизм фактически привёл к эстетике абсурда, к не устраняемой своим философским аппаратом антиномий феноменальности «матрицы шизо» и её анализа: «шизоанализа» Ж. Делёза и Ф. Гваттари.
Мыслеформа (как проявленное осознание мысли) является подверженной смещению смыслов либо в сторону абстракции ассоциаций, либо в абсурд идеализма, материализма. В то время как «мысль» отражает массу (энергии) того или иного структурного алфавитного плана, которую подают/смещают в той или иной плоскости онтологии глубинные уровни материи, прикосновение к которым, согласно утверждению К. Г. Юнга, структурой интеллекта невозможно. Данное определение времени, было нами заимствовано у А. А. Свиридова.
Так, «мысль» мы будем рассматривать как «психический, временной и психологический инструмент…» 98, проявляющий и открывающий сознания рефлексов, сознания интеллекта, ума, рассудка, разума, души.
В этом контексте можно отметить, что осознание мысли – как мыслеформы мифологемы о различной природе духа и души в трудах древнегреческих философов не произошло. Имели место быть образы трёхчастной и трёхуровневой души у Платона и Аристотеля, но конгруэнтный образ духа своему идеалу так и не был выведен.
В работах Платона феномен духа передаётся посредством номинации «πνεῦμα» (греч.), которая в равной степени замещается и номинацией «νοητικός» (греч.). Последняя номинация сообщает ему такие категории, как разум и/или мыслящий. В основании этой номинации содержится и морфема «νοῦς» (ноус – высший разум или душа).
Процесс пересечения и даже замещения смыслов одной морфемы другой весьма наглядно представлен в словаре церковнославянского языка. В частности он наглядно представляет, что номинация «умный», также подразумевающее под собой словоформу «духовный», выдвигается в качестве равнозначной дефиниции греческому слову «ноэтос» («умопостигаемый») 99, «чем устанавливается непосредственная связь с философией Платона и Аристотеля, для которых „умопостигаемое“ обладало преэмптивным значением с точки зрения познания» 100.
По Платону, душа относится к области духа, но она также занимает «промежуточное положение между чисто духовным и чисто вещественным» 101, то есть дух является высшей ценностью, идеалом ассоциации идей, что является следствием применения диалектического метода в объёме знаний меры различия (первой рефлексии сознания на себя).
Также практически все труды древнегреческих исследователей содержат методы анализа, обобщения именно концепта «психе (греч.)», в переводе на русский язык означающего дух и одновременно душу, что позволяет нам сделать достаточной изящный и чёткий вывод, что превосходные открытия о природе души, смешиваемой в языковом мышлении древнегреческих авторов с концептом духа, помешали им также оценить истинную природу данных событий, что ставит их открытия сегодня в ряды частных явлений, открытиями особенного и единичного уровня. Вместе с тем необходимо признать, что для исследований 2500-летней давности эти работы в своё время были вершиной научной мысли. Вывод о наличии негативной стороны проявлений толерантности духа к отсутствию в его онтологическом континууме программы по взаимодействию с феноменологией души в рамках древнегреческой философской традиции нами ранее уже был представлен. Поэтому закономерным будет рассмотрение следующих философских традиций, которые закрепляли косвенно или напрямую феномен толерантности духа.
Читать дальше