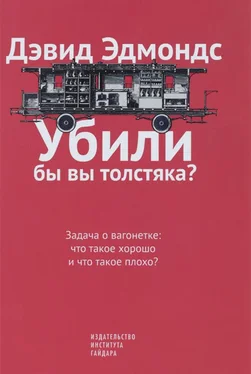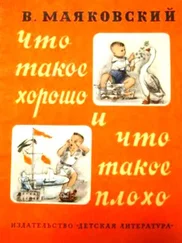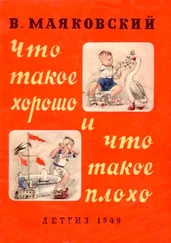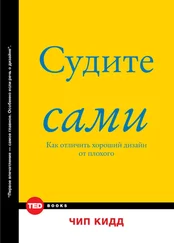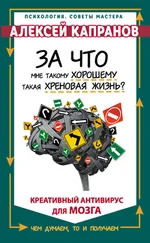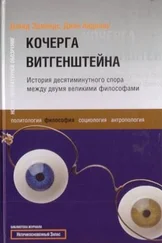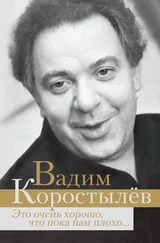Не так-то просто вывести следствия из этих исследований нравственности. Если существует связь между определенным типом повреждения мозга и утилитаризмом, должны ли мы сделать вывод, что порой у пациентов с травмой мозга более ясный взгляд на мораль, чем у остальных? Или же мы, напротив, должны счесть такие данные доказательством того, что в утилитаризме не все гладко, так что те, кто считают, будто толстяка надо столкнуть, демонстрируют некую фундаментальную ущербность своего этического аппарата? Последнее представляется по крайней мере правдоподобным. Поскольку психопаты плохо справляются с определением необходимых действий в некоторых бесспорных случаях, разумно сделать вывод, что их суждение сомнительно и в сценариях с вагонетками. Другими словами, тот факт, что психопаты с большей готовностью одобряют убийство толстяка, выступает некоторым, пусть и достаточно слабым, подтверждением того, что убивать толстяка — плохо.
Нейроболтовня
Нейронаука захватывает себе территории многих других дисциплин. Это новое направление, она воодушевляет и приносит захватывающие результаты. Однако у нее есть и яростные критики, особенно когда она утверждает, будто проясняет этику. Одно из направлений критики говорит о том, что нейронаука имеет методологические изъяны, то есть это плохая наука.
Сканирование мозга пока еще остается достаточно грубым методом с неточными измерениями. Тестирование реакций испытуемых, когда они лежат внутри длинного резервуара, вряд ли позволяет воспроизвести какую-либо дилемму из реальной жизни. Как бы глубоко пациенты ни погружались в дилемму, сколь бы успешно они ни представляли, что действительно столкнулись с ней, подавляя свою недоверчивость, вряд ли они почувствуют учащенный стук сердца, вспотевшие ладони, страх, панику и тревогу настоящей жизни. В этих экспериментах отсутствуют обычные звуки, запахи и виды. Нет шума, болтовни или грохота улицы на заднем фоне, нет дождя или света солнца [184] Хотя, как описывалось в главе 12, некоторые психологи постарались воспроизвести реальную жизнь в трехмерных экспериментах.
.
Это не значит, что свет солнца должен влиять на наши решения. То, пожертвую я или нет жертвам наводнения на другом конце света, не должно зависеть от того, как на мое настроение повлияла погода. Однако в реальной жизни существует множество факторов, так что мы должны с осторожностью относиться к любым экстраполяциям выводов, полученных при сканировании, на реальную жизнь.
Однако есть и более фундаментальные возражения на заявления нейронауки. Суть обвинения состоит в том, что последняя допускает своеобразную категориальную ошибку. Британский философ XX века Гилберт Райл, который ввел понятие категориальной ошибки, иллюстрировал ее таким примером: американский турист приехал в Оксфорд и, осмотрев Шелдонский театр, Бодлейскую библиотеку, колледжи и дворики, задал невинный вопрос: «Но где же университет?», словно бы университет был некоей отдельной физической сущностью.
Примерно в том же смысле приписывать идеи, решения и мотивы, желания и предрассудки мозгу — это своего рода категориальная ошибка. На Райла повлиял Витгенштейн, а многие современные критики нейронауки сами витгенштейнианцы. Витгенштейновская критика нейронауки состоит в том, что психологические атрибуты нельзя приписать мозгу, они приписываются только людям. Сознание, утверждают они, не тождественно мозгу. Я могу быть смущенным или могу запутаться, не зная, стоит ли переводить вагонетку на другой путь. Но мой мозг не бывает смущенным. Меня может оттолкнуть мысль о том, что надо применить физическую силу, чтобы убить толстяка. Но подобный поворот событий не может испугать мой мозг. Я могу рассчитать, что лучше потерять одну жизнь, чем пять, но нет смысла говорить, что этот расчет производит мой мозг. Конечно, если бы мой мозг не работал, я бы тоже не функционировал, но это не значит, что я совпадаю со своим мозгом. Поезд не мог бы работать без двигателя, однако он не тождественен этому двигателю [185] Наиболее последовательную критику новой нейронауки см. в: Tallis R. Aping Mankind. Durham, NC: Acumen, 2011.
.
Но чаще всего нейроскептики бьют мимо цели. В целом когда специалисты по нейронаукам говорят о том, что мозг смущен или испугался, они используют эти выражения метафорически [186] Следует отметить, что существуют некоторые философы, которые полагают, что мозг и сознание это и в самом деле одно и то же.
. Затем нейроскептик предъявляет нейроученому еще одну ошибку. Он говорит, что поведение лучше всего можно понять, не заглядывая внутрь мозга, а рассматривая человека в его среде. Но это слишком слабый снаряд. Только самый тупой ученый стал бы утверждать, что активность мозга — единственное или самое лучшее объяснение поведения человека и сознательных состояний или что оно заменяет объяснения всех остальных типов. И в самом деле глупо говорить, что описание влюбленности или объяснение политической идеологии того или иного человека можно найти в определенной области мозга. Любовь и политику невозможно свести к какому-то химическому коловращению. Мозг расположен в теле. А люди принадлежат культурам и обществам. Ответ на вопрос о том, почему такой-то человек голосовал за демократов или республиканцев, невозможно ограничить описанием нейронной массы, функционирующей в промежутке между его ушами.
Читать дальше