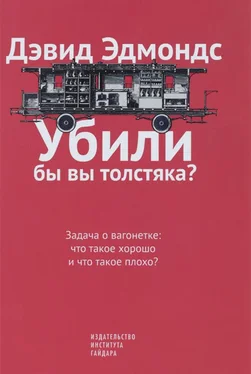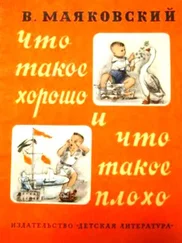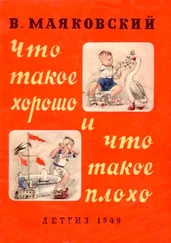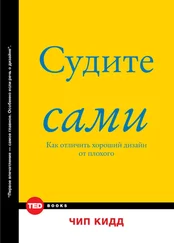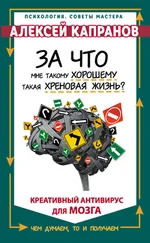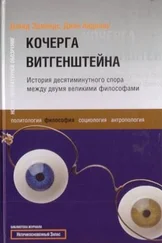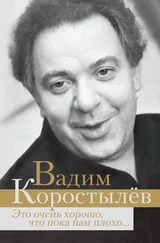В 1990‑е годы один из студентов Хомского в Массачусетском технологическом институте, Джон Микаил, задался вопросом о том, можно ли лингвистическую модель перенести в область нравственности, и занялся изучением параллелей с примерами из вагонеткологии.
Если бы существовала явная параллель, можно было бы ожидать того, что у детей будут те же интуиции в сценариях с вагонетками, что и у взрослых. Именно к такому результату и пришел Микаил. Вслед за психологом Джонатаном Хайдтом он стал называть детей «интуитивными юристами», хотя для Микаила, исследователя права, это положительный эпитет, а для Хайдта — иронический [139] Mikhail J. Elements of Moral Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 101. Некоторые классические работы по развитию нравственности у детей появились достаточно давно, см. например: Piaget J. The Moral Judgement of the Child. Harmondsworth: Penguin, 1977; Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. Психологические технологии. М.: Академический проект, 2006.
. Дети высказывают поразительно сложные моральные суждения, в которых находит отражение не только мораль взрослых, но и сложные правовые системы. Дети трех и четырех лет используют идею интенциональности для того, чтобы провести различие между двумя действиями с тождественными последствиями, например, ситуации, когда один человек случайно толкает другого, сбрасывая его с моста, и той, когда он делает это намеренно. То же самое различие проводит и обыденная мораль, и право. Дети в возрасте четырех-пяти лет понимают уже намного более сложное различие, которое опять же сходно с юридическим различием между фактической ошибкой и юридической. Так, машинист вагонетки может наехать на какое-то препятствие, полагая, что это листья, и не понимая, что это человек. Это была бы фактическая ошибка, которая может выступать извинением. Если существовали достаточно убедительные основания для такой ошибки, их можно считать важными для определения вины машиниста. Но если машинист вагонетки говорит, что он отлично понимал, что на дороге привязан человек, но ошибочно полагал, будто допустимо наезжать на людей, тогда это юридическая ошибка, и она вряд ли может быть признана смягчающим обстоятельством.
Согласно соответствующей концепции, врожденная моральная структура должна действовать на достаточно абстрактном уровне, точно так же, как язык. У наших правил нет какого-то конкретного содержания (вроде «не оскорбляй свою тещу»), так что в нравственности могут быть некоторые локальные различия — точно так же, как есть они и между языками. Возможно, универсальным законом языка является то, что правильное грамматическое высказывание должно содержать подлежащее, сказуемое и дополнение, однако порядок, в котором они соединяются друг с другом, в разных языках разный. Примерно так же между разными культурами могут быть определенные различия в нравственности. В одном исследовании, проведенном в Индии, изучалась роль социальных и культурных ожиданий в суждениях, выносимых в сценариях с вагонетками. Когда действующего в сценарии агента относили к касте ученых (брахманам), участники не желали, чтобы он сталкивал кого-нибудь, чтобы спасти пять жизней; но они гораздо чаще одобряли такое действие, когда агент принадлежал к касте воинов (кшатриев). Тем не менее утверждается, что глубинные абстрактные правила (например, «не причиняй намеренно вреда невинному») являются всеобщими.
Марк Хаузер, работавший с Микаилом гарвардский (в те времена) исследователь из той же области, обнаружил еще одну параллель с языком: моральные интуиции проявляются почти мгновенно и в предсказуемой форме при предъявлении любого числа уникальных случаев, с которыми испытуемые ранее не сталкивались. Более того, если людей спрашивали, почему у них такие интуитивные представления, часто им было трудно объяснить или как-то обосновать их. Они могли сказать, к примеру, так: «Не знаю даже, почему я передумал» или «Я не понимаю, почему этот случай кажется мне отличным от прежнего». Порой они могут умалять свои способности, заявляя в замешательстве: «Я знаю, что не рационален, однако эти случаи не кажутся мне похожими». Когда же объяснения все же давались, они очень сильно варьировали. Хаузер пишет: «Эту неспособность обеспечить соответствующее истолкование нельзя оправдать ни юным возрастом, ни отсутствием образования: она характерна и для образованных взрослых, мужчин и женщин, специально подготовленных и далеких от философии морали или религии» [140] Hauser M. Moral Minds. New York: Harper Collins, 2006. P. 34; Хаузер М. Мораль и разум. М.: Дрофа, 2008. С. 76. Хаузер потом утратил доверие, когда всплыли сведения о спорных исследовательских практиках, однако ничто не указывало на то, что опубликованные им в этой области исследований результаты в каком-то смысле опровергнуты.
. В объяснениях встречались отсылки к Богу, эмоциям, наитию, правилам (не убий!), последствиям (пять спасенных лучше одного), а также, как сообщает Хаузер, совершенно откровенные рационализации — «всякое бывает».
Читать дальше