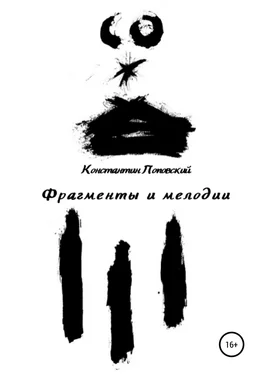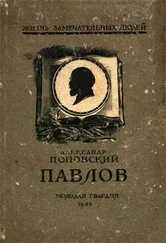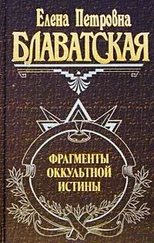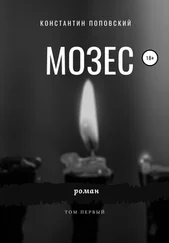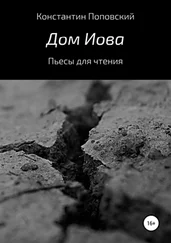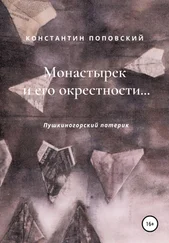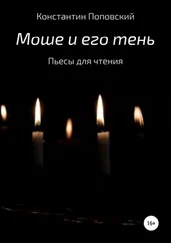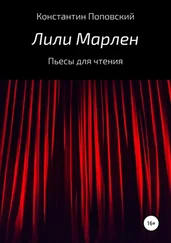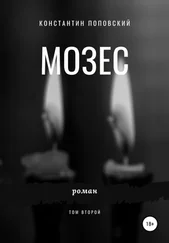Дело идет именно о формальной проверке пирроновских суждений, а не об их действительном содержании. Последнее логику не занимает. Прав Пиррон по существу своей мысли или он заблуждается, формально-логические принципы это тревожит так же мало, как и содержание любых наших суждений. Говоря словами Канта, эти принципы существуют «независимо от всякого опыта, ибо они содержат лишь условия применения рассудка вообще». Может быть, в мире «объективной реальности» и в самом деле нет ничего ни истинного, ни ложного, – формальное мышление ничего сказать об этом не может. Но, что касается его собственной сферы, там мы с его помощью обнаруживаем и истинное, и ложное, причем, обнаруживаем его в качестве абсолютного условия существования самого мышления.
Пиррон может сколько угодно возражать против этого, ссылаясь на существо своей мысли и указывая на такую область, где само мышление растворяется в обманчивом тумане кажимости. Но ведь любое возражение уже существует, как суждение, и притом по законам, именно по законам, которые приписывают ему формальные принципы «рассудка». Хочет того Пиррон или нет, но и он, как и все мы, вынужден признать абсолютную власть этих принципов, хотя и не приближающих нас к пониманию действительной сущности вещей, но, во всяком случае, устанавливающих форму в соответствии с которое мы только и можем мыслить и рассуждать. И хотя в числе своих требований последовательный скептицизм выдвигает принципиальный отказ вообще от каких-либо высказываний (epohé), то ведь и это требование есть не что иное, как суждение, высказанное по законам, продиктованным формальными правилами. Оно может существовать лишь в самом себе, – исключив всё, что противоречит его внутреннему смыслу, т.е. любому догматическому «да» или «нет». Оно не просит у Пиррона согласия или одобрения. Оно просто ЕСТЬ, и с этим ЕСТЬ вынужден считаться даже самый последовательный скептицизм.
И вот именно здесь происходит нечто такое, что значительно сильнее, чем все доводы Пиррона и его древних и современных последователей, заставляют нас заподозрить, что принудительная сила доказательств совсем не всегда оборачивается «убеждениями». Дело в том, что некоторые источники определенно утверждают, что хотя Пиррон и полагал, что человек не обладает никаким мало-мальски достоверным знанием, само знание существует и принадлежит богам: знание «находится где-то у богов» и не является делом человеческой мудрости. Более того: мы узнаем, что жители родной Пиррону Эллиды не только не преследовали его за скепсис, но и избрали верховным жрецом города…
Историку философии, очевидно, остается только руками развести. У него, как и у всякого здравомыслящего человека, не вызывает сомнения, что скепсис Пиррона и его вера в существование обладающих знанием богов и несовместимы, и немыслимы.
Возможно, не впадая в противоречие, мыслить такое бытие, где нет ни истинного, ни ложного, и где всякое «да» с необходимостью предполагает равносильное «нет»; возможно мыслить и бытие всезнающих богов. Но очевидно, что, не нарушив lex contradiction, невозможно, не нарушив «правил рассудка», мыслить их в их одновременном существовании.
Чтобы устранить это формально-логическое противоречие Пиррону ничего другого не остается, как выбрать между догматическим «да» (боги есть) и скептическим «ни… ни…» (нет ни истинного, ни ложного). Ведь «если там, где одно мнение противоречит другому, имеется противоречие, то очевидно, что один и тот же человек не может в одно и то же время считать одно и то же существующим и не существующим: в самом деле, тот, кто в этом ошибается, имел бы в одно и то же время противоположные друг другу мнения».
Так говорит современник Пиррона Аристотель, а вернее, устами Аристотеля так говорит та самая формальная логика, без которой, как ступить, и с этим вынуждены согласиться как историк философии, так и любой мало-мальски здравомыслящий человек. Но пожелает ли согласиться с этим сам Пиррон?
Вопрос возникает не на пустом месте. Невозможно думать, в самом деле, что Пиррон не заметил столь явного противоречия, как невозможно сомневаться в его философской честности, которая – если верить источникам – остается выше всяких похвал. И всё же факт остается фактом: Пиррон высказал одновременно два суждения, нисколько не заботясь о том, что они абсолютно противоречат друг другу, и оставляя нас в неведении относительно тех причин, которые его к этому побудили.
Читать дальше