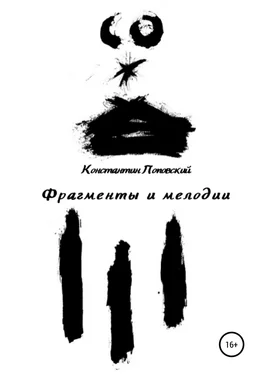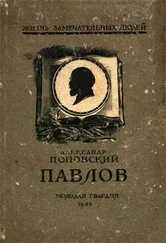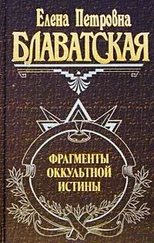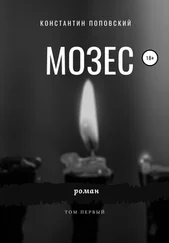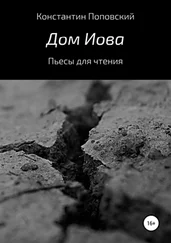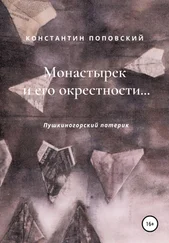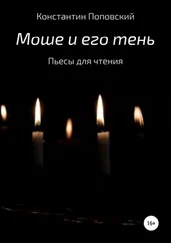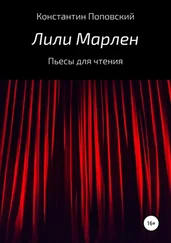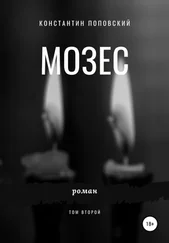Что же еще остается, как не это, единственное: пробиваться сквозь это мутное, рыхлое, смазанное, невнятное, не зная – куда и не зная – как, но только бы – отсюда?..
Мы очень богаты, – говорим мы без тени смущения.
Что же это за богатства, которыми мы так гордимся?
Конечно же, это кровь, текущая в наших жилах. Конечно же, это форма носа, цвет волос и разрез наших глаз. Конечно, это и язык, на котором мы лепечем наши милые глупости о «национальном интересе» или «судьбе народа». Кажется, есть у нас и еще кое-что. Ах, да, чуть было не забыл. Это «еще» называется «наши традиции». Разумеется, они всегда – «великие», ведь иначе они, конечно, ни были бы нашими. Великие традиции, естественно, предполагают и великое Прошлое, и не менее великое Будущее. Что же касается Настоящего, то разве Прошлое и Будущее – не достаточные поручители за наш сегодняшний день? К тому же, посмотрите: разве не остались все наши богатства при нас? Придет день – и мы пустим их в оборот, – мы, – гордящиеся текущей в наших жилах кровью и местом, где нам довелось родиться…
Опровергнуть притязающую на роль истины кровь, конечно же, нельзя, как нельзя опровергнуть эту нищету, все утратившую и ничего не умеющую, кроме одного: цепляться, перед лицом неизбежного, за последнее, что у нее еще осталось.
ГЕРАКЛИТ. ФРАГМЕНТ 40 ДК. «Многознание уму не научает, – говорит этот фрагмент, – а не то оно научило бы Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофана с Гекатеем».
Это значит, конечно, что искать следует не «это» или «то», а что-то совсем другое, все-превосходящее, единственное, – то, научающее «уму», в чем (или благодаря чему) все остальное раскрывает себя в своей истинности. Знание остального, каким бы обширным оно ни казалось – не «знание» в точном смысле этого слова, ибо в подлинном знании вещи, события, люди и звезды, время и пространство, и даже боги выступают в своем подлинном обличии, они поворачиваются к нам лицом, сохраняя верность и послушание тому единственному, в лоне которого они рождены, благодаря которому они предстают, как истинные, и о котором не перестают свидетельствовать самим своим существованием.
Не так многознание. Если не бояться идти до конца, то его следовало бы сравнить с вероломством и предательством. Вероломством, нарушившим священную изначальность договора, и предательством, предающим свои собственные корни и истоки. Не от этого ли вероломства, и не от этого ли предательства рушится небо и размыкается под ногами земля? Не здесь ли скрыта и тайна рождения самой метафизики? Не здесь ли зачинается она – пережившая Истину? И если так, не знаменует ли этот уход того единственного, которое мы ищем? И сам этот уход, уходящий прочь от мира, не делает ли он мир чужим, – и для нас, и для самого себя?
Многознание: встреча с миром в его покинутости, в его окаменевшем самодовольстве.
Есть ли о чем сожалеть, глядя на него? И не сама ли Дике, богиня правосудия, заставила Анаксимандра произнести пророчество, предрекающее гибель мира и его вещей: «из каких начал вещам рождение, в то же самое и гибель совершается по роковой задолженности».
Впрочем, ведь и сам Анаксимандр мыслил и говорил на языке метафизики. Быть может, поэтому эта справедливость, кажущаяся столь незыблемой, и не станет тем последним словом, которое нам доведется услышать. И слезы Гераклита – не вечны.
Но что же это такое за Единственное, которое столь желанно? Оно – все рождающее и все возвращающее самому себе? Не указывает ли к нему путь Демокрит, готовый отдать царскую власть и все богатства мира за знание одной-единственной причинной связи, способную научить нас истине? Все, кто когда-либо приносил метафизике присягу на верность, понимали это именно так. И, однако, дело здесь все же заключается не в причинах, способных объяснить все, что нуждается в объяснении, а в чем-то другом. Причины, – это ведь тоже только «остальное», – и как бы ни велика была их прячущаяся в тени власть, они все равно остаются только следствием, но не истоком. Немудрено, что метафизика всегда была занята именно этим «остальным», проживая в его границах и кормясь от его сомнительных щедрот. – Да разве единственно-научающее – само не похоже на «причину»? Не лежит ли оно в основании, властвуя и управляя? – Что ж, – спросим в свою очередь и мы, – разве Истина подобна тени, убегающей от света, но с неизбежностью остающейся позади? Не всегда ли она рядом, открытая, как открыты зеленеющие под открытым солнцем поля? И не о том ли простые и на все лады повторяемые, но никак не услышанные слова Гераклита (фрагмент 17 ДК): «Большинство не воспринимают вещи такими, какими встречают их, и, узнав, не понимают, но грезят».
Читать дальше