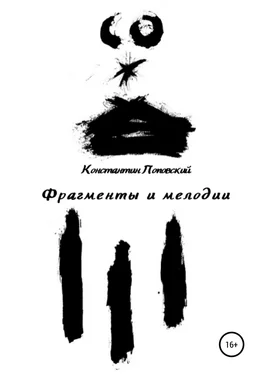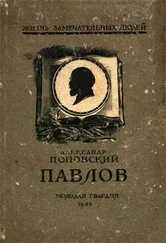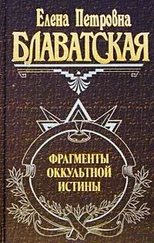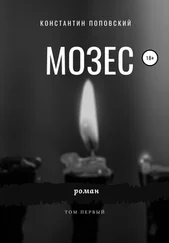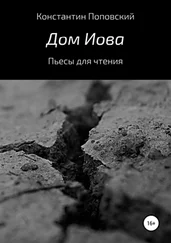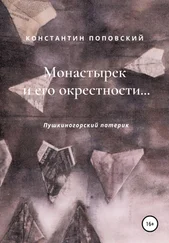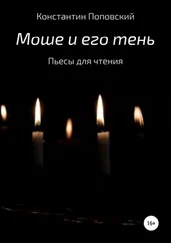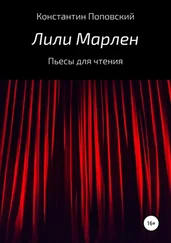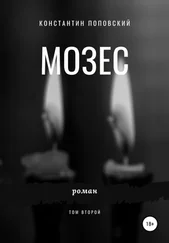Не отдаю ли и я дань этой грезе, спрашивая: что же это за единственное, которое так желанно?
К слову сказать, верно также и то, что и многописание тоже «уму» не научает, – как бы глубоко и зорко оно ни было. Ведь, в конце концов, книга – это всегда только поиск и путь, – как ни прекрасны они, но найденное и постигнутое в конце пути, все же во сто крат его превосходит, как солнечный свет превосходит свет светильника. Сама книга, правда, полагает, что она рассказывает именно о найденном. И, похоже, так оно и есть. Дело только в том, чтобы не спутать это найденное с его утомительными поисками, занимающими миллионы страниц. Ведь само найденное может легко уместится всего в одной фразе-строчке. Да, пожалуй, и это слишком много. Ведь и эту фразу легко выговорить простым кивком головы или доверить ее молчанию. Все остальное – только пройденный и забытый путь.
«Многознание», конечно, нечто совсем иное, чем «ум», которому оно не может научить. «Многознание» учит только многознанию, – «ум» же, похоже, смотрит совсем в другую сторону, – может быть, даже прямо противоположную и многознанию и, кто знает, – самому знанию. Сказанное, конечно, ничего не прибавляет ни к нашему пониманию «ума», ни, тем более, к уяснению той «стороны», куда он обращен. Комментаторы охотно объяснят нам, что «ум» Гераклита занят общей и единой основой для всего многообразного множества явлений, тогда как многознание как раз довольствуется этим лежащим под рукой сомнительным материалом, который, не будучи уловлен сетью единого, расползается в ничем не обоснованные беспочвенные мнения. Это представляется тем более верным, что может быть отнесено не только к Гераклиту, но ко всем кто мыслил и до, и после него. Правда, несомненное и самоочевидное имеет обыкновение ослеплять тех, кто безоговорочно доверяется его чарам. Указанное комментаторами, разумеется, безусловно верно, но лишь потому, что сам Гераклит, как и все «мыслящие», говорит именно на метафизическом языке, – том самом, который один открывает нам «единственное» и «последнее», столь же далекое от любопытствующего многознания, как тени платоновской пещеры от порождающих их первообразов. И в самом дел: все, что Гераклит рассказывает, как о не вызывающей сомнение Истине, – все эти «Огонь», «Логос», «Порядок», «Закон», «Мера» и прочее, – обнаруживает себя в этом языке, – или, может быть, лучше сказать: дает сотворить себя этому языку? – или же: становится возможным благодаря ему? – как бы то ни было, суть от этого не меняется: единственное и последнее, лежащее в основании нашей жизни и нашего мира, приоткрывается нам в такой близости к языку, на котором оно выговорено, что, пожалуй, у нас нет не только возможности сказать, где кончается одно и начинается другое, но и утверждать, что нам известно, какое из двух названных является причиной другого. Сам Гераклит так, конечно, не думал: «уму» (который ведь состоит в прямом родстве с языком) именно научаются, и научаются у того, что выше всякого «ума» (хотя и этот последний тоже состоит в прямом родстве с научающим). Да, собственно говоря, у кого нам еще учиться и на каком еще языке разговаривать, как ни на том, который приводит нас в Царство Последнего? Есть разве у нас другой язык, способный запечатлеть Увиденное? И все же кое-что здесь настораживает. Ну, например, отчего это научающее нас Последнее и Единственное – никогда не научает нас раз и навсегда? Отчего оно всякий раз является нам в новых одеждах и под разными именами? Разве все эти Огонь, Дух, Воля, Эйдосы, Бытие и Благо, Бог, Материя и Природа говорят об одном и том же? – о том единственном, которого мы ищем? Разве не ускользает оно – это единственное – всякий раз оставляя в наших руках только звучные имена и роскошные одеяния, которые мы храним в наших библиотеках и музеях? Не здесь ли и царит подлинное многознание, не научающее «уму», но научающее осторожности и оглядке?
Не обстоит ли дело так, что то ускользающее единственное, о котором идет речь, вовсе не нуждается ни в каком языке? И в этом ускользании, оставляющем вместо себя лишь имена и пустые одежды, и состоит его истинная «природа»? Не в эту ли «сторону» и смотрит «ум», и ни у этого ли Ускользающего хочет он обучиться?
Не спросить ли нам тогда: правда ли, что Гераклит рассказывает о том, о чем он действительно хотел бы рассказать? Быть может, тот язык, на котором он говорит, на котором говорили и до и после него, и сам этот «ум», обучающийся у имен, – есть только тень теней (или – следуя прежде сказанному – тени, обнаруживающие другие тени или даже их порождающие?) Но тогда и все эти метафизические пространства, возможно, – лишь раскрашенные декорации, меняющиеся от действия к действию, – а ускользающее от всех имен Единственное живет, быть может, совсем не в тех местах, где мы привыкли его искать, и говорит совсем не на том языке, на котором мы к нему привычно взываем. Не бродит ли оно по дорогам и тропам нашего мира, среди того многообразного множества, которое так презирает «ум»? Не здесь ли и Дом его, которым оно управляет мудро и с любовью, вечно пребывая в общении с вещами, небом и землей, не научая и не поучая их, а лишь оберегая и сохраняя то, чему они могут научить сами? Что же и остается нам тогда, как ни прислушаться к этой беседе и, быть может, принять в ней участие? Но прежде, нам следовало бы овладеть искусством перевода, силящимся разглядеть за чужим и враждебным нам языком наши собственные лица, – искусством, перелагающим суеверные и нелепые басни на язык ветра, леса и моря. Быть может, мы услышим тогда, о чем в действительности говорят Гераклит, Анаксимандр или Платон, о чем говорим и все мы – не решаясь признаться даже самим себе, что мы владеем языком, ничуть не похожим на тот, на котором говорит метафизика.
Читать дальше