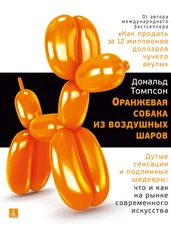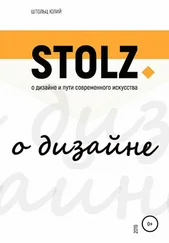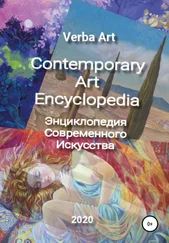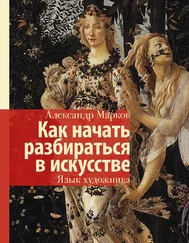Не-человеческие агенты осуществляются и в самых неожиданных направлениях современной теории. Есть теории довольно консервативные, но допускающие, что язык служит таким агентом: например, современный венский теоретик искусства Армен Аванесян полагает, что сам язык обладает способностью к дейксису (указанию на происходящее), благодаря чему и возможно длящееся настоящее, которое расширит объем понятия «галерея», включив туда не только присвоенные капитализмом ин ституты современного искусства, но и различные формы новой, в том числе кибернетической солидарности художников. Есть и радикальные теории, которые тоже уже не могут обходиться без обращений к данным техники. Так, в современном феминизме сформировались такие важные направления, как киберфеминизм и ксенофеминизм.
Киберфеминизм, обоснованный теоретиком Донной Харауэй, представляет собой учение о киберпространстве как свободном от гендерных различий. Следовательно, чтобы стать свободной от дискриминации, женщина должна стать киборгом: необязательно это означает, что она должна бегать на специальных управляемых ходулях или обладать силой кулачного удара, обеспеченной точно рассчитанной процессором стимуляцией. Кибернетична женщина вполне и когда пользуется беговой дорожкой или приложением в смартфоне. Она вполне доверяет технике, и этот режим доверия вполне артистичен и должен быть принят мужчинами с целью преодолеть прежние гендерные предрассудки.
Ксенофеминизм, представленный, скажем, Хелен Хестер, исходит из того, что опыт чужого, странного, чуждого, предшествует опыту знакомого, и именно на него должен опираться феминизм. Хестер, в частности, исследует, как превращение сферы услуг в невидимую способствовало ее феминизации: например, голос автоответчика из мужского стал женским. Если не обосновать ксенофеминизм, то женщина станет невидимой для общества, а благодаря распространению ксенофеминизма, наоборот, женщины, например, разрабатывая приложения для смартфонов, сделают себя по-настоящему видимыми и явят сферу услуг как область подлинного прогресса.
Важным термином постколониальной теории искусства является «апроприация», иначе говоря — присвоение: споры, может ли не-китаец писать о китайцах, мексиканца играть не-мексиканец, можно ли использовать чужие про изведения искусства или мысли как политический аргумент. Например, недавно один научный журнал вышел с рисунком китайской вышивки на обложке, и с той еще предпосылкой, что вышитые животные могут быть переносчиками вируса — разразился скандал, потому что произведение искусства было превращено в карикатуру, отнято у китайцев и употреблено для того, чтобы заклеймить всё «вышедшее из Китая». Ключевым в незаконности этой апроприации нужно считать не «китайское», а «произошедшее из Китая», как будто из Китая идет только дрянь. Об апроприации спорят в киноведении, может ли режиссер или актер не принадлежать к тому народу или социальной группе, которой посвящен фильм — и дело здесь именно не в «игре» (как раз «игра» подразумевает любую перемену, в том числе гендерных ролей, а с тем, что актер может играть героя другого возраста, согласны даже самые консервативные критики), а именно в ритуале посвящения, насколько этот «дар» будет принят, нет ли в нем некоторой двусмысленности и шантажа. Поэтому в конце концов вопрос об апроприации — это вопрос о даре и Другом, который может быть решен только совместными усилиями континентальной и аналитической философии. Такие вспыхнувшие в последние месяцы с новой силой споры, как возвращение экспонатов из Британского музея различным народам (а еще лорд Байрон бранил лорда Элгина за похищение из Греции скульптуры Акрополя, и переговоры о возвращении идут не одно десятилетие), или об организаторах биеннале как новых страте- гах-колонизаторах, говорят о том, что и нам тоже с вами предстоит поучаствовать в этих дискуссиях.
Есть еще одна важная проблема постколониальных исследований — наследие рабства: рабы создавали отдельные произведения искусства, прежде всего, архитектуру, и рабы же изображались, например, на сюжетных полотнах до самой отмены рабства в середине XIX века. Еще немецкий поэт-экспрессионист Готфрид Бенн обратил внимание на то, что в Афинах и в Спарте раб стоил примерно одинаково, но в Афинах были серебряные деньги, а в Спарте — металлические прутья: сумма, которая требовалась за раба, заполняла целую комнату. Поэтому в Афинах и создали изящное искусство: казна стала пониматься не просто как место, но как банк, откуда можно изымать средства для каких-то целей и мобильно их направлять на поддержку отдельных искусств, как можно направлять рабов на строительство каких-то сооружений. В Афинах стала возможна не только казна, но и статуя Зевса из золота и слоновой кости, казна-в-искусстве. Следует заметить, что такая эффектная статуя вполне вписывается в классическую риторическую культуру, в которой поразить воображение и значит убедить — как тиран Пи- систрат приехал на золотой повозке якобы богини Афины и граждане признали его власть. Поэтому наследие рабства — это не только этическая, но и практическая проблема: как правильно распоряжаться инвестициями в современное искусство, чтобы преодолеть любые намеки на злоупотребления чужим трудом.
Читать дальше
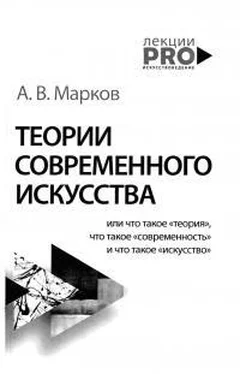

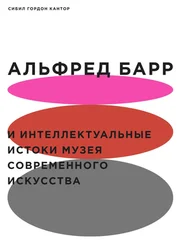
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)