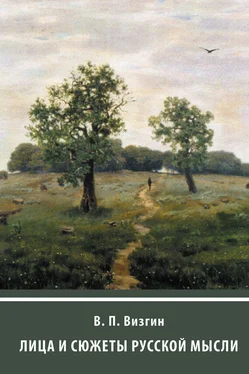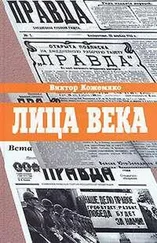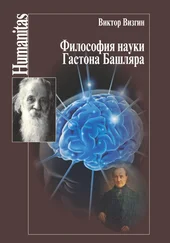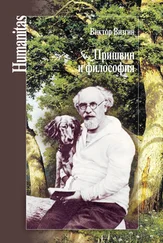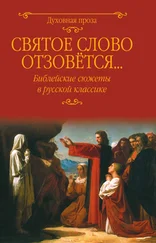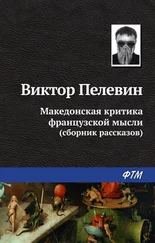Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету ,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.
Лететь без крыльев вроде бы нельзя. Но Шопену можно: он в полете обзаводится крыльями! Полет без крыльев – падение. Шопен рискует разбиться, но бросается в свободный полет без крыльев. Однако успевает до касания с землей обрести их и сохранить парение. Крылья – награда за смелость.
В душе поэта музыка Шопена прозвучала ключом ко всей культуре XIX в. Она вдруг предстала ему как ее символ. Словами рассудка выразить это не просто: надо изучать, анализировать, сравнивать… А тут живое чувство Шопена как музыкальной иконы XIX столетия.
«Век спустя» душа Шопена оживает в душе поэта. И вот она, вполне рационально ясная, сухая формула нового – XX – века:
А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.
«Крылатая правота», достигнутая окрылением на лету, выживавшая в XIX столетии, в XX, однако, разбивается: слишком уж мощные «плиты общежития» воздвиг этот век! «Социальный вопрос» был салонной темой в XIX в. Правда, порой он из салона и библиотеки выходил на улицы и строил там баррикады. Но подавляющей всех и вся плитой еще не стал, став ею только в XX в. вместе с мировой войной и русской революцией, когда эстетическая утопия мансард и салонов окончательно сменяется властвующей социальной утопией.
«Все расхищено, предано, продано» (А. Ахматова). Как точно о «плодах» перестройки, которая обрушится на Россию лет через 80 после того, как эти слова были сказаны!
XX век для России – век всяческих поражений, включая катастрофические, и одной великой победы. Каким будет XXI?
«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» (Пушкин).
Когда ты что-нибудь пишешь, неважно что, делай все для того, чтобы, написав, мог воскликнуть: вот единственное, что от всего мною написанного останется!
Русская философия сегодня (вместо заключения)
Семинар «Русская философия (традиция и современность)», работающий с 2004 г., вполне может служить одним из «окон», позволяющим увидеть, что же представляет собой сегодня философия в России [553]. Благодаря такому «окну» открывается вид, прежде всего, на философствование, ориентирующееся на русскую религиозную мысль, что оправдано уже тем, что именно она выражает саму душу нашего отечественного любомудрия.
Вниманию читателя предлагается «свободная россыпь» (с. 109) мыслей и слов, очень разных, нередко несогласных друг с другом, но в то же время внутренне между собой связанных. Например, общей тенденцией, объединяющей авторов этого издания, выступает подчеркнутый методологический антиредукционизм, персонифицированным образцом которого может служить Новгородцев (1866–1924), никогда не пытавшийся «свести высшее к низшему» (с. 113).
В 40—50-е гг. прошлого столетия книги русских религиозных мыслителей найти было нелегко. Пробиться в спецхраны библиотек и архивов могли немногие. А связей с заграницей тогда еще не было. Поэтому многие ищущие философского просвещения молодые люди обращались, как это не раз случалось и раньше, например, с Герценом и его друзьями, к интеллектуальным богатствам Запада. В те годы западную философию у нас представляли преимущественно Маркс и те немецкие мыслители, на которых он опирался. Среди них первое место занимал тогда Гегель. В результате «тевтонское пленение», о котором выразительно, хотя и чрезмерно критически, пишет А. В. Соболев (с. 103–109), подчеркивая его неплодотворное для российской философской мысли воздействие, у нас явно затянулось. Но уже с 1960-х гг. началось постепенное высвобождение из-под власти неотразимого для философски ориентированного ума наследия немецкой классики. Началось оно не столько с переключения интереса тогдашней профессиональной философии на другие вершины собственно философской мысли, сколько с расширения кругозора и углубления всей нашей гуманитарной культуры. Начатое во многом благодаря политической «оттепели» движение мысли быстро вышло далеко за рамки неогуманистической версии марксизма как ее идеологического ориентира. Заслуживает внимания в этой связи и то характерное обстоятельство, что высвобождение от «тевтонского плена» в целом и в частности от марксистского его варианта активнее, чем в среде академических философов, происходило в меньшей степени по сравнению с ними «заидеологизированных» кругах интеллектуалов. Среди них нельзя не указать на естественно-научно образованных молодых людей, питавших стойкий интерес к философии и гуманитарной культуре. Именно представители этого круга впоследствии и составили ядро организаторов семинара и авторов рецензируемого сборника (А. Н. Паршин, С. М. Половинкин, В. П. Троицкий, А. В. Соболев, С. С. Демидов, В. П. Визгин).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу