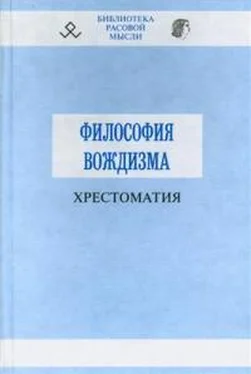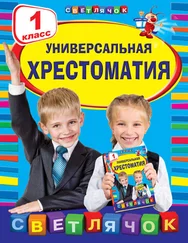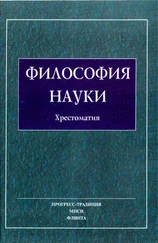И действительно, почему масса племен и даже целых человеческих рас в процессе исторического развития не явила миру никаких примеров этого самого развития в виде вождей, эпох и деяний? Чтобы совершить космический полет, нужно ощутить потребность в этом, ясно осознать, что это такое, и мобилизовать свою волю на пути к достижению цели. Но не все народы способны к этому от природы. Не все поддаются «исцелению от мечтательности», не все способны объективировать чувствования, представле-
и желания. Борьба за жизнь всюду дает прямо противополож- ния0 результаты: кто-то поднимается, а кто-то обречен падать. «Легкомыслие (ПаИегвгап) есть отсутствие личности. То, что постоянно бывает желательным, решаемым или исключаемым, является элементарным содержанием объективной стороны характера», - указывал автор.
Р Психологические и педагогические взгляды Гербарта этим отнюдь не исчерпываются, ибо он создал уникальную всеохватывающую философскую систему, получившую название гербартиан- ство, и ее влияние очень скоро преодолело границы Германии. Большая часть европейской системы образования базировалась на его учении. Мало того, гербартианство впоследствии было признано даже советской педагогикой. Так, в 1940 году стало выходить собрание сочинений Гербарта, подготовленное массовым тиражом в серии «Библиотека учителя». В предисловии к первому тому было сказано буквально следующее: «Учение Гербарта являет собой непревзойденную по стройности систему буржуазной педагогики, поэтому и развитие советской педагогики без позитивного переосмысления ее наследия невозможно».
Вряд ли нужно объяснять, что за подобного рода публичные высказывания на заре коммунистической эры можно было угодить в лапы большевистских инквизиторов, выжигавших все проявления «буржуазной» культуры каленым железом. Но к 1940 году, году подписания пакта Молотова-Риббентропа, ситуация изменилась, и дрейф всей государственной машины Сталина в сторону германофилии был очевиден. Советских школьников вознамерились учить по педагогическим лекалам, предназначенным для гитлеръюгенда, используя сакральную фразу «Каждому свое», которую еще Гербарт предложил применять в воспитательных целях. Нордический образ пионера Тимура из известного советского предвоенного фильма «Тимур и его команда» (1940), снятого по одноименной книге Аркадия Гайдара, на котором воспитывались поколения советских школьников, - апофеоз гербарти- анства. В фильме можно мысленно заменить красные знамена на красные же, но со свастикой, и при этом назидательная, моралистическая суть от перемены символов нисколько не изменится. Основная идея фильма состоит в том, что сильный юноша, имеющий четкое представление обо всем происходящем и использующий свою управляемую волю, подчиняет себе толпу «низших существ», все время путающихся в своих оценках, понятиях и желаниях.
Уже в первой половине XIX века теория Иоганна Фридриха Гербарта, охватив все слои населения, прочно укоренилась в народной системе образования Германии. Этот успех, тщательно замалчиваемый сегодня, нужно очевидно искать отчасти и в биографии ее создателя. Будучи еще мальчиком, он по неосторожности упал в чан с кипятком и очень сильно обварился, так что вся его юность ушла на восстановление физических кондиций организма посредством самовоспитания. Именно в этой неустанной работе духа, оживляющего тело буквально по волокнам, вероятно, и нужно искать основу его психо-физиологической концепции вождизма: «чувствование», «представление», «желание».
«Память воли» — так Гербарт назвал сверхчувственный вектор, движущий еще бесформенное живое существо по пути к кристаллизующемуся совершенству сверхчеловека. Память воли формирует моральные принципы индивида, а его сущностные интересы создают методы борьбы за власть: «Там, где имеется память воли, там и выбор будет сам собою разрешен». Именно эта причинно-следственная логика духовной и физической борьбы человека создает пьедестал, на который постепенно возводится его нравственное достоинство.
Гербарт стал одним из первых, кто повел осознанную и мощную атаку на классический немецкий идеализм, что уже само по себе было неслыханной дерзостью. «Пустые абстракции — это ничем не обеспеченные бумажные деньги», — писал он. Поэтому и любые проявления нравственности оценивались им лишь с точки зрения практической полезности: «Этика, или практическая философия, есть наука о воле. Нравственные элементы - это нравящиеся или ненравящиеся отношения воли. Поэтому благо — это любой объект, на который направлена наша воля».
Читать дальше