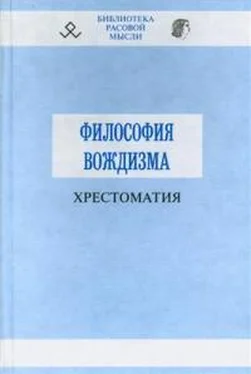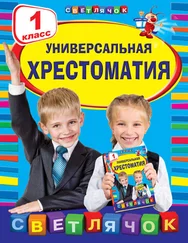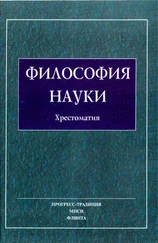«вождизма» тщательно разрабатывалась на кафедрах старейших университетов еще за сто лет до рассматриваемого периода. Основатель Великогерманского Рейха Отто фон Бисмарк именно по этому поводу сказал: «Франко-прусскую войну 1870-1871 годов выиграл немецкий учитель».
Еще в XVIII веке французы, англичане и итальянцы высокомерно взирали на немцев, едва речь заходила о системе образования, но уже к началу XIX века ситуация коренным образом изменилась. С ростом интенсивности духовной жизни в Германии наметилась и прагматическая тенденция культа науки во всем немецком обществе. Именно тогда возникло расхожее понятие «страна профессоров». Раскрепощенная протестантская этика, основанная на трудолюбии и порядке, быстро дала всходы; на базе новейших идей философии возникла стройная система психологии и педагогики.
Известный французский психолог и философ Теодюль Рибо (1839-1916) в своей обзорной книге «Современная германская психология» (1895) давал такое резюме революционных изменений в немецкой науке того времени: «Новая психология отличается от старой своим духом: это не дух метафизики; своей целью: она изучает явления; своими методами: она их заимствует, по возможности, у наук биологических».
Именно на начало XIX века и приходится пора расцвета идей реформатора, изменившего все принципы европейского образования. Иоганн Фридрих Гербарт (1776-1841) считается основоположником современной научной педагогики, кроме того, с его же именем принято связывать возникновение такой дисциплины, как этническая психология и первое психо физиологическое учение о воле. По меткому определению современников, он первым вознамерился создать «анатомию души».
В учении Гербарта лежит представление о мире на основе борьбы за «самосохранение души». Биологические существа вступают в борьбу, в результате которой возникает усилие, направленное к их самосохранению (Selbsterhaltung). Этот инстинкт самосохранения воплощается затем для каждого живого организма в представление (Vorstellung).
В своей книге «Психология как мировоззрение» (1825) он указывает: «Размышление о самих себе порождает мечтателя; занятие
Иоганн Фридрих Гербарт
же тем, что происходит вне, может исцелить мечтателя». Таким образом, в его учении о человеческой воле закладывается объективное представление. Гербарт вводит понятие «психический организм», под которым он понимает человека, способного к идеальному нравственному самообузданию; это своего рода элементарная заготовка на пути к становлению будущего в<���Лкдя. «Хотение (Wollen) есть пожелание (Wunsch) с предположением достижения желаемого. Нет ничего более очевидного, чем то, что страстный человек есть раб. Его неспособность обращать внимание на основы выгоды и долга, его гибель из-за собственного греха — очевидны. В противоположность этому, разумный человек, отгоняющий свои желания, коль скоро они противоречат тому, что хорошо обдумано, по справедливости называется свободным; и он тем более свободен, чем более силен в этом отношении». Вождь, таким образом, и есть самый свободный человек, достигший максимальной свободы через преодоление своих желаний на основе ясного представления и управляемой воли. Вождя отличает сочетание таких редких качеств, как способность чувствования, способность представления и способность желания (Begehren), причем все они иерархично взаимосвязаны. Борьба оттачивает инстинкт, который создает ясное представление, а на его основе посредством воли достигается желаемый успех в борьбе. Обыкновенные люди по Гербарту очень часто страдают «потемнением представлений», чего не случается у выдающихся людей, одаренных волей, остротой ощущений и четко знающих, чего они хотят. «Часто бывает, что в то время как после обдумывания решение начинает складываться в понятие, поднимается желание, сопротивляющееся этому решению. Тогда человек не знает, чего он хочет; он рассматривает себя как стоящего между двумя силами. В этом саморассмотрении он противопоставляет разум и желание так, как если бы они были посторонними советниками, а он сам — кем-то третьим, который прислушивался бы к ним обоим и затем решал. Он считает себя свободным решать, что хочет. Но разум, которому он повинуется, и желание, которое его раздражает и обольщает его, в действительности находятся не вне его, но в нем, и сам он ничуть не третий наряду с теми двумя, но в этих двух заключается и действует его собственная душевная жизнь. Если же, наконец, он делает выбор, то этот выбор - не что иное, как совместное действие вышеупомянутых разума и желания, свободно стоящим между которыми он себя воображал».
Читать дальше