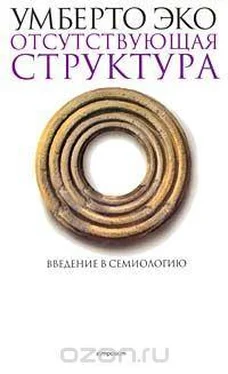А коль так, то лингвист (или шире, семиолог) не обязан задаваться вопросом о том, что это за "присутствие" и что это за "отсутствие" способы ли это мышления или всего лишь гипотезы о способах мышления. На уровне "etic" это МАТЕРИАЛЬНЫЕ факторы. Но философ, к примеру Лейбниц, неизбежно задается вопросом, не связаны ли эти присутствие и отсутствие с присутствием Бога как полноты бытия и отсутствием Бога, то есть с Ничто.
И если все это так, то уместен вопрос а не существует ли еще что-то, что могло бы объять оба полюса этой диалектики?
Богослов не затруднился бы ответом: в божественном уме никакой диалектики присутствия и отсутствия нет Бог — полнота собственного бытия. Он весь — присутствие. Именно потому божественное понимание не предполагает развития и Богу неведомы проблемы коммуникации: все сущее в единый миг объемлется. Его взглядом (и ангельским умам тоже в какой-то мере дается эта привилегия — обнимать мир, причащаясь творящему видению Бога. Почему человек сообщает? Именно потому, что он не в состоянии охватить все единым взглядом. И поэтому есть вещи, которых он НЕ ЗНАЕТ, но о которых ему нужно СКАЗАТЬ. Недостаточность познавательных способностей и превращает коммуникацию в чередование того, что мы знаем, с тем, чего мы не знаем. А как вообще может быть сообщено нечто неизвестное? Противопоставления и различения и заставляют неизвестное всплывать из глубин неведомого.
Но тогда — и этот вывод так очевиден, что к нему не могли не придти все западные мыслители от фламандских и поздних немецких мистиков до Хайдеггера, — коммуникация существует не потому, что мне все известно, но потому, что есть вещи, МНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ. И не потому, что я есть все (как Бог), а потому, что я не Бог. То, что составляет меня как человека, так это то, что я не Бог, это моя отделенность от бытия, моя ненаделенность полнотой бытия.
Человек должен мыслить и сообщать и вырабатывать свой подход к реальности, потому что он ущербен и обделен. Он наделен обделенностью. Он и есть эта нехватка, рана, beance. Зияние. У Платона на этот счет есть понятие /opiauoc;. Что такое ^(opicr^ioc? Словарь дает "различие" или "отделение". Это различие по местонахождению в пространстве (^(ора). В том смысле, что сущее и Бытие различаются по месту. Вспомним об "изначальном месте": это то место, где помещается Бытие. Но мы-то не там. Мы всегда в ДРУГОМ МЕСТЕ.
Это "другое место" и есть отсутствие бытия, которое обязывает нас задаваться вопросами и отвечать.
Не то чтобы мы общались, используя оппозициональные различия как инструмент. Но мы общаемся, "говорим" именно потому, что мы онтологически укоренены в различии.
Эти платоновские мотивы подхватывает Хайдеггер и приходит к радикальным выводам в "Was heisst Denken?". Если в диалектике Присутствия и Отсутствия я — на стороне отсутствия, то я могу описывать присутствие, только "показывая" его. Всякий философский дискурс исходит из Отсутствия. В лучшем случае, как это и происходит у Хайдеггера, мышление должно быть мышлением этого учреждающего меня различения, в котором я познаю Отсутствие, которое я и есть, а не Присутствие, от которого я по существу далек, находясь в ДРУГОМ МЕСТЕ.
В этой схватке решающая роль отводится языку. Через него Бытие "раскрывается". Может быть, потому, что язык в качестве метаязыка способен описывать диалектику присутствия и отсутствия? Очевидно, что нет, коль скоро язык (см. Лейбница) на этой диалектике и базируется. Ответ Хайдеггера таков: язык это язык Бытия. Бытие говорит через меня посредством языка. Не я говорю на языке, но меня проговаривает язык.
Идея Бытия, к которому мы имеем доступ только через язык, у Хайдеггера просматривается совершенно очевидно, идея языка, который не во власти человека, потому что не человек думает на каком-то языке, но язык мыслит себя в человеке 1. И именно плетения языка передают особые отношения человека с бытием.
А это отношения различия и членения. Предмет мысли это Разли-чие как таковое 2, различие как различие. Мыслить различие как тако-вое — это и значит философствовать, признавать зависимость человека от чего-то такого, что именно своим отсутствием его и учреждает, позволяя, однако, постичь себя лишь на путях отрицательного богословия. По Хайдеггеру, "значимость мысли сообщает не то, что она говорит, но то, о чем она умалчивает, выводя это на свет способом, который нельзя назвать высказыванием".
Когда Хайдеггер напоминает нам о том, что вслушиваться в текст, видя в нем самообнаружение бытия, вовсе не означает понимать то, о чем этот текст говорит, но прежде всего то, о чем он не говорит и что все-таки призывает, он выдвигает идею, которую мы находим у многих теоретиков онтологического структурализма, превративших язык в потеху метафор и метонимий. Вопрос "кто говорит?" означает: "кто тот, кто к нам взывает, кто призывает нас к мышлению?" Субъект этого призыва не может быть ни исчерпан, ни охвачен какой-либо дефиницией. Разбираясь с одним на первый взгляд несложным фрагментом Парменида3, понимаемым обычно, как указывает Хайдеггер, так: "Необходимо говорить и думать, что бытие есть"4, он пускает в ход весь набор этимологических ухищрений с целью добиться более глубокого понимания, которое в итоге оказывается чуть ли не проти-
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу