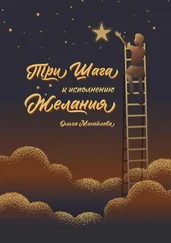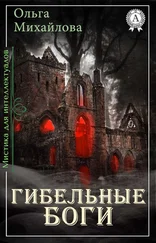«Весь народ, писал Толстой, имел знание истины, это знание истины уже мне было доступно, я чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в так называемом священном предании и писании».
Адриан тупо смотрел на страницу. Церковь? Исказила Истину? Но ведь никакой церкви в их жизни и нет!
И Истины тоже. Что, Истину упразднили вместе с церковью? Тогда она точно там, но… как же это? Что до Писания — дайте-ка сначала почитать. Но, увы. Евангельские и библейские фразы приходилось собирать по строчке.
Всё это разочаровало и, в общем-то, ни в чём не убедило Адриана. И прежде всего — он это понял — неубедителен был сам патриарх литературы. Раздражали мелькавшие то и дело фразы «Ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой и мною…», «нам с Соломоном…» Добро бы, это о тебе сказал я, но самому о себе… как-то… не надо бы. Самоирония? Но Толстой казался серьёзным. Однако у Толстого хотя бы вопросы, интересовавшие Книжника, были поставлены, и теперь Адриан окончательно понял, что его собственные поиски — не бред сумасшедшего. Толстой тоже искал, а его психом никто не называл.
Надо при этом заметить, что в Адриане всегда была эта неосознаваемая им кротость — не то, чтобы склонность не соизмерять себя с окружающими, но скорее — умение не думать о себе. Он себя никогда не интересовал и не анализировал, его интересовала Истина.
Отвергнув Толстого, Книжник погрузился в Достоевского — и тут нашёл собеседника на годы. В основном, читал «Бесов» и «Братьев Карамазовых» — читая и перечитывая, упиваясь и хихикая. Адриан понял из двух романов Достоевского больше, чем из всего Толстого. Понял и ответ Достоевского на свой вопрос. Неочевидно поставленный, он и проступал неочевидно, называя Истину — Христом.
Адриан вздыхал. Понимания не было. Собеседников не было. Истины не было.
Впрочем, однажды, после двух потерянных армейских лет, уже в университете, у него состоялся любопытный разговор с Полторацким. Михаил, отнюдь не отличавшийся глубокомыслием, с изумлением поглядев на «Феноменологию духа» и «Критику чистого разума» на постели Парфианова и с опаской отодвинув книги от себя, осторожно спросил, зачем Адриан читает подобное? Парфианов спокойно ответил, что ищет Истину. Губы Полторацкого раздвинулись в какую-то судорожную полуулыбку-полугримасу, он почесал бровь и сказал, что глупо искать истину в книгах. Адриан неожиданно поддержал разговор, с несвойственной ему обычно живостью спросив, где бы её искал сам Полторацкий, уж, не in vino ли, по его мнению, veritas?
Не что чтобы Парфианов намекал на склонность Мишеля к обильным возлияниям, тот это видел, просто интересовался.
— Нет, — ответил Полторацкий, — я думаю, истина — в любви.
Лицо Парфианова перекосилось. «Тёмный чулан с пауками…» Шелонский, который стал прислушиваться к разговору, изумился.
— Причём тут чулан?
— Если Истина пребывает в столь знаменательной точке, как задница вашей Ванды, что же это за Истина? Нет, господа, книжные анналы могут и не содержать Истины, с этим я согласен, мало ли мне попадалось лживых книг, но в анальном отверстии мадемуазель Керес Истины быть не может по определению. Не пытайтесь переубедить меня.
Никто и не пытался.
Полторацкий молчал. Шелонский тоже.
На том их дебаты об Истине и закончились.
Адриан был не впечатлителен, но — восприимчив. Поначалу он проникался чужеродной мыслью книги как собственной, ловил себя на странных аллюзиях и литературных параллелях. Вчитываясь в гётевские строки, изобличал себя на помыслах инфернальных, качаясь на мерных гомеровских гекзаметрах, обретал непередаваемое словесно гармоничное спокойствие духа, однажды, пролистав нечто бредовое из Беккета, целый час не мог обрести своей привычной манеры мыслить, а прочтя несколько мерзейших строк из Бодлера, ощутил такой пароксизм чувственности, что от жажды женщины свело зубы. Но постепенно это прошло. Адриан научился отстраняться от прочитанного и критически разлагать его на составляющие.
Книжник ещё на первом курсе изумил преподавателя спецкурса по стихосложению, когда моментально, с невероятной быстротой и пониманием усвоил метрику и тонику стихов, безошибочно, на слух определял размер любой строки, демонстрируя своеобразное «бельканто», но когда его попросили прочесть его собственные стихи — растерялся.
Их не было. Точнее, в школьные годы он набросал пару коротеньких поэм — шутки над приятелями, изобилующие малоприемлемой лексикой, но их Адриан давно выбросил, а «просто стихов» никогда не писал. Теперь, видя изумление преподавателя, задумался, и с тех пор начал иногда набрасывать нечто — вначале носившее не столько поэтический, сколько метрический характер. Адриан слагал, методично подсчитывая слоги, оды алкеевой строфой, писал александрийским стихом записки приятелю Алёшке Насонову, единственному, в ком он обрёл подобие понимания, а, узнав, что в российской поэзии не употребляются пеоны, кроме третьего, сочинил рондо вторым пеоном. Знай наших!
Читать дальше
![Ольга Михайлова Книжник [СИ] обложка книги](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-cover.webp)
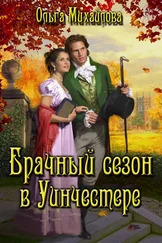

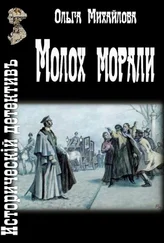
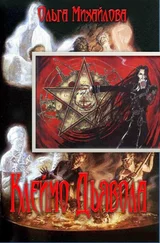
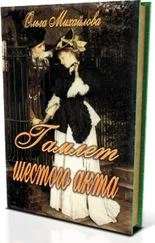
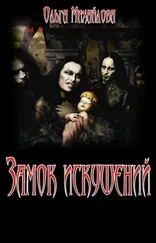
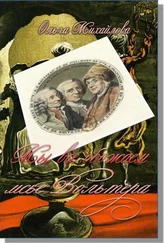
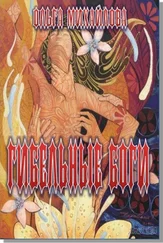
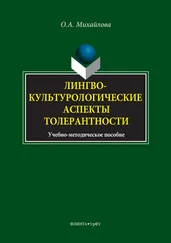
![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)