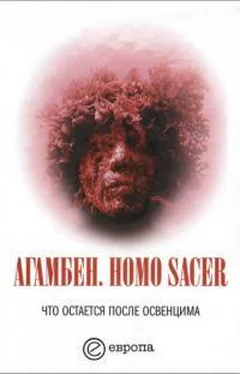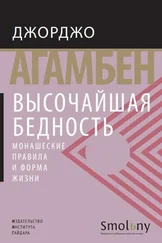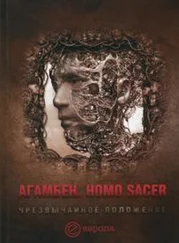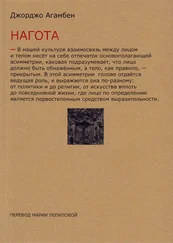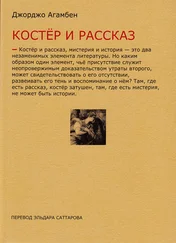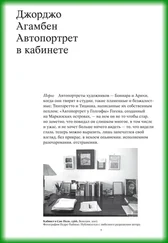Во время иерусалимского процесса постоянная линия защиты Эйхмана была выражена его адвокатом Робертом Сервациусом следующим образом: «Эйхман чувствует себя виновным перед Богом, но не перед законом». И действительно, Эйхман (ответственность которого в истреблении евреев была очевидно доказана, несмотря на то что, вероятно, его роль и отличалась от той, которую ему инкриминировало обвинение) даже заявил о том, что хочет «публично повеситься», чтобы «снять с молодых немцев бремя вины», но, тем не менее, до самого конца продолжал утверждать, что его вина перед Богом (которым для него был Höheren Sinnesträger, высший носитель смысла) не наказуема по закону. Единственным возможным смыслом этого столь настойчиво повторяемого различия является то, что признание моральной вины, очевидно, казалось подсудимому этически благородным, но в то же время он не был готов признать уголовную ответственность (которая, с этической точки зрения, должна была бы быть менее тяжелой).
Недавно группа людей, которые в прошлом входили в крайне левую политическую организацию, опубликовала в газете сообщение, в котором они заявляли о собственной политической и моральной ответственности за убийство комиссара полиции, произошедшее 20 лет назад. «Эта ответственность, однако, — говорилось в сообщении, — не может быть трансформирована… в уголовную ответственность». Здесь уместно вспомнить, что признание моральной ответственности имеет значение, только если вы готовы принять ее юридические последствия. И это авторы сообщения, кажется, до некоторой степени ощущают, так как делают существенный шаг, принимая на себя ответственность, которая звучит в точности как уголовная, когда утверждают, что «создали климат, который привел к убийству» (но срок давности данного преступления — подстрекательства к убийству — естественно, уже истек). В любую эпоху считалось благородным, будучи виновным, принять на себя чужую юридическую ответственность (Сальво д’Аквисто [29] Сальво д’Аквисто (1920–1943) — итальянский карабинер, ценой своей жизни спасший от расстрела 22 невиновных жителей деревни, которых эсэсовцы обвинили в организации взрыва на военном складе в небольшой деревушке Торримпьетра в окрестностях Рима. Был расстрелян 23 сентября 1943 года.
), в то время как принятие политической или моральной вины без юридических последствий всегда характеризовало высокомерие сильных мира сего (Муссолини в отношении убийства Маттеотти [30] Джакомо Маттеотти (1885–1924) — один из лидеров Итальянской социалистической партии, убежденный критик фашизма. Разоблачал избирательные махинации и злоупотребления фашистской партии на выборах 1924 года, потребовал аннулировать мандаты фашистских депутатов. 10 июня 1924 года был похищен и убит фашистами.
). Но сегодня в Италии эти модели поменялись местами, и покаянное принятие моральной вины постоянно используется, чтобы избежать юридической ответственности.
Здесь мы наблюдаем абсолютное смешение этических и юридических категорий (с логикой раскаяния, которое этим смешением подразумевается). Это смешение является причиной множества самоубийств, совершенных, дабы избежать процесса (и не только нацистскими преступниками), в которых молчаливое принятие моральной вины должно как будто освободить человека от юридической ответственности. Нужно помнить, что ответственность за эту путаницу несет в первую очередь не католическая доктрина, обладающая, кстати, таинством, целью которого является освобождение грешника от вины, а светская этика (в своей доминирующей — благонамеренной и фарисейской версии). Возведя юридические категории в ранг категорий высшей этики и таким образом немедленно спутав все карты, эта этика хотела бы еще и сыграть на своем отличии от права. Но этика — это сфера, которой не известны ни вина, ни ответственность: она, как знал Спиноза, является доктриной блаженной жизни. Принять на себя вину и ответственность — что иногда бывает необходимо — означает выйти из сферы этики, чтобы войти в сферу права. Человек, сделавший этот непростой шаг, не может претендовать на то, чтобы войти в ту же дверь, которую он только что закрыл за собой.
1.8.
Крайним видом «серой зоны» были Sonderkommando. Этим эвфемизмом — «особая команда» — эсэсовцы называли группы заключенных, которые работали в газовых камерах и крематориях. Они должны были приводить обнаженных заключенных в газовые камеры и не допускать в их рядах паники; затем вытаскивать наружу трупы, покрытые розовыми и зелеными пятнами в результате действия цианистоводородной кислоты, мыть их, проверять, не спрятаны ли в полостях трупов ценные предметы; вырывать из челюстей золотые зубы, срезать женские волосы и мыть их хлоридом аммиака, затем перевозить трупы в крематорий, следить за их сжиганием и, наконец, освобождать печи от оставшегося в них праха.
Читать дальше