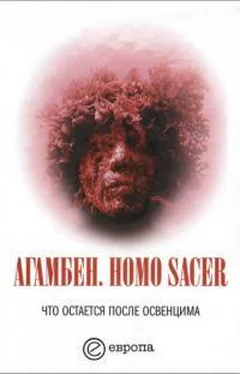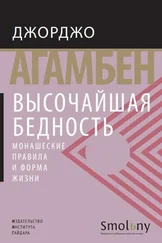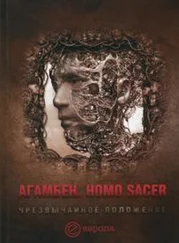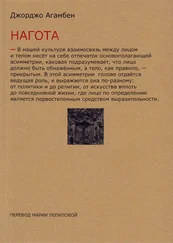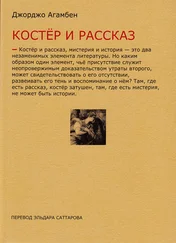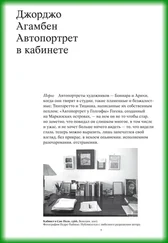Но Леви не чувствует себя писателем, он становится им, исключительно чтобы свидетельствовать. В каком–то смысле писателем он так никогда и не стал. В 1963 году, когда он уже опубликовал два романа и множество рассказов, на вопрос, кем он себя считает — химиком или писателем, он ответил без тени сомнения: «Конечно, химиком, не следует заблуждаться» [9] Ibid. P. 102.
. Тот факт, что со временем и почти вопреки себе он стал писателем и начал писать книги, которые не имели никакого отношения к его свидетельству, вызывает у него сильное чувство неловкости: «Потом я начал писать… я приобрел дурную привычку писать» [10] Ibid. P. 258.
. «В моей последней книге — “Ключ “звездочка” я совершенно освободился от своей роли свидетеля… Это не значит, что я отказываюсь от нее; я не перестал быть бывшим заключенным, свидетелем…» [11] Ibid. P. 167.
И он носил в себе эту неловкость, когда я впервые встретил его на собраниях в издательстве «Эйнауди». Он, возможно, чувствовал себя виноватым в том, что выжил, но не в том, что свидетельствовал. «Я в мире с самим собой, потому что я свидетельствовал» [12] Ibid. P. 219.
.
1.3.
В латыни для определения свидетеля существуют два слова. Первое — testis, от которого происходит итальянское слово testimone, с этимологической точки зрения, оно обозначает того, кто выступает в роли третьей стороны ( terstis ) в процессе или в споре между двумя противниками. Второе слово — superstes [13] Букв.: переживший (лат.).
указывает на того, кто пережил нечто, прошел до самого конца какое–то событие и поэтому может свидетельствовать о нем. Очевидно, что Леви — не третий; он во всех смыслах является выжившим. Но это обозначает также, что его свидетельство не связано с приобретением фактов в рамках судебного процесса (он недостаточно нейтрален для этого, он не является testis). В конечном счете ему важен не приговор — и тем более не прощение. «Я никогда не играл роли судьи» [14] Ibid. P. 77.
; «у меня нет права прощать… у меня нет таких полномочий» [15] Ibid. P. 236.
. Более того, кажется, что его интересует лишь то, что делает приговор невозможным, та серая зона, в которой жертвы становятся палачами, а палачи — жертвами. По поводу этой серой зоны выжившие в основном соглашаются: «Ни одна группа не была человечнее других» [16] Ibid. P. 232.
; «Жертва и палач в равной степени лишены благородства, уроком концлагеря является братство унижения» [17] Давид Руссе, цит. по: Levi, Primo. Conversazioni e interviste. Torino: Einaudi, 1997. P. 216.
.
Это не значит, что приговор не может или не должен быть вынесен. «Если бы передо мной оказался Эйхман [18] Адольф Эйхман (1906–1962) — оберштурмбаннфюрер СС, один из главных организаторов уничтожения евреев во время Второй мировой войны, возглавлял отдел гестапо IV–B–4, отвечавший за «окончательное решение еврейского вопроса». После окончания Второй мировой войны и вплоть до 1960 года скрывался в Аргентине под именем Рикардо Клемента. В 1960 году был выкраден оперативной группой «Моссада» и переправлен в Израиль. 15 декабря 1961 года Эйхман был признан виновным в преступлениях против еврейского народа и приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года.
, я бы приговорил его к смерти» [19] Levi, Primo. Conversazioni e interviste. Torino: Einaudi, 1997. P. 144.
; «Если они совершили преступление, значит, должны за него заплатить» [20] Ibid. P. 236.
. Важно не путать свидетельство и приговор и понимать, что право не претендует на то, чтобы исчерпать этот вопрос. У правды есть и неюридический аспект, в котором quaestio facti никогда не может быть сведен к quaestio iuris [21] Quaestio facti — вопрос факта, quaestio iuris — вопрос права (лат.).
. И именно это является делом «выжившего»: все то, что выводит человеческую деятельность за пределы права, то, что радикальным образом освобождает ее от Процесса. «Каждого из нас могут судить, приговорить и казнить, даже не зная, за что» [22] Ibid. P. 75.
.
1.4.
Одним из самых распространенных недоразумений — и не только в связи с концлагерями — является негласное смешивание этических категорий с юридическими (или еще хуже — юридических категорий с богословскими: новая теодицея). Почти все категории, которыми мы пользуемся в области морали или религии, в какой–то мере заражены правом: вина, ответственность, невиновность, приговор, оправдание… Поэтому при их использовании требуется особая осторожность. Факт состоит в том, что, как прекрасно знают юристы, право в конечном счете не стремится ни к восстановлению справедливости, ни к установлению истины. Оно стремится лишь к вынесению приговора, независимо от истины или справедливости. Это доказывается, без всякого сомнения, силой судебного решения, которая присуща и несправедливому приговору. Конечная цель права — создание res judicata [23] Букв.: разрешенное дело (лат.) — в римском праве положение, в соответствии с которым окончательное решение полномочного суда, которое вступило в силу, является обязательным для сторон спора и не может быть пересмотрено.
, посредством которого приговор заменяет собой истину и справедливость и имеет значение истинного даже вопреки своей ложности и несправедливости. Право находит свой покой в этом гибридном творении, о котором невозможно сказать, является оно фактом или нормой; и дальше оно идти не может.
Читать дальше