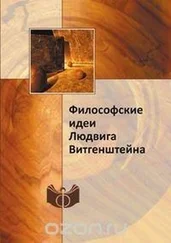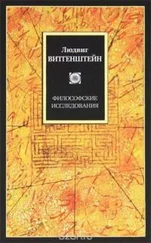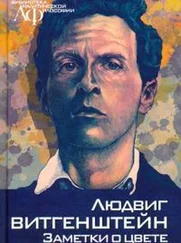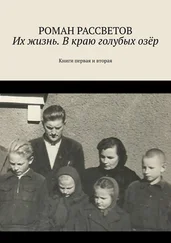В «Исследованиях» он переходит затем к обсуждению отношений логики и языка, однако в «Коричневой книге» этого не делает, хоть это и близко связано с тем, что он там говорит. Особенно это относится к тому, что он говорит о глаголе «мочь» в связи с идеей о том, что вообще может быть высказано. («Когда мы говорим, что это всё ещё язык? Когда мы говорим, что это всё ещё пропозиция?») Ибо здесь возникает искушение думать об исчислении и о том, что может быть высказано посредством исчисления. Но Витгенштейн назвал бы это неправильным пониманием как правил языка, так и способов его употребления. Когда мы говорим в обычной ситуации, мы не употребляем ни точно определимых понятий, ни строгих правил. И понятность здесь есть нечто отличное от понятности в исчислении.
Ситуация эта возникла потому, что люди мыслили «то, что может быть сказано» как «то, что разрешено в исчислении» («Ибо какой другой смысл здесь имеет слово „разрешено“?») — по этой причине предполагалось, что логика управляет единством языка: тем, что принадлежит языку, и тем, что ему не принадлежит; тем, что является понятным, и тем, что — нет; тем, что является пропозицией, и тем, что — нет. В «Коричневой книге» Витгенштейн настаивает на том, что язык не имеет ни этого вида единства, ни этого вида понятности. Но в действительности он не обсуждает, почему люди считают, что это так.
Возможно, вы считаете, что он сделал это ранее в «Голубой книге», но я так не думаю. Я не думаю, что он ставит там вопрос о логике и языке, который определённо присутствует в «Коричневой книге», даже если там не вполне проясняется, к какого рода затруднению он приводит. На с. 55 «Голубой книги» он говорит, что «мы не используем язык согласно строгим правилам; и нас не обучили ему посредством строгих правил. Однако мы в наших рассуждениях постоянно сравниваем язык с исчислением, развивающимся согласно строгим правилам». Когда Витгенштейн спрашивает (на с. 56), почему мы это делаем, он отвечает просто: «Ответ заключается в том, что загадка, которую мы пытаемся разрешить, всегда вытекает как раз из этой установки по отношению к языку». Остаётся только гадать, является ли это ответом. Его точка зрения, как он формулирует её, например, на с. 57, заключается в том, что «человек, озадаченный в философском смысле, видит закон в том, как используется слово, и, пытаясь последовательно применять этот закон, приходит к <���…> парадоксальным результатам». На первый взгляд это похоже на то, что он скажет позже в «Исследованиях» о стремлении сублимировать логику нашего языка. Но здесь, в «Голубой книге», он не выясняет, что такого есть в употреблении языка или в понимании языка, что заставляет людей мыслить слова таким образом. Предположим, мы решим, что это происходит из-за того, что философы смотрят на язык метафизически. Хорошо, но тогда спросим себя, что заставляет их это делать; Витгенштейн отвечает в «Голубой книге», что это происходит из-за стремления к обобщению, а также потому, что «у философов постоянно перед глазами — метод науки, и они испытывают непреодолимый соблазн спрашивать и отвечать на вопросы так, как это делает наука» (с. 47). Другими словами, Витгенштейн не находит источника метафизики в чём-то специально связанном с языком. Это очень важный пункт, и он означает, что тогда ему ещё не всё было ясно относительно характера философских затруднений, по сравнению с тем временем, когда он писал «Исследования». Но в любом случае, философов (когда они озадачены проблемами языка или понимания) приводит к мысли об идеальном языке или логически правильной грамматике не стремление (или — не столько стремление) спрашивать и отвечать на вопросы тем способом, каким это делает наука. Это происходит по-другому.
В «Голубой книге» Витгенштейн ясно говорит о том, что мы не пользуемся языком в соответствии со строгим правилами и не употребляем слова в соответствии с законами, подобными тем, о которых говорит наука. Но он не вполне проясняет свою позицию относительно понятий «знание значения» или «понимание»; и это означает, что ему всё ещё многое не ясно и в понятии «следование правилу». И по этой причине он не вполне осознаёт ещё ту путаницу, которая возникает, когда люди говорят, что знание языка — это знание того, что может быть высказано.
«На чём базируется сама возможность того, что слова имеют значение?» То есть: что стоит за идеей значения, которую мы находим в теории логически собственных имён и логического анализа? И это аналогично вопросу о том, чтó вы усваиваете, когда усваиваете язык; или усвоением чего является язык. В «Голубой книге» Витгенштейн однозначно даёт понять, что слова имеют значения, которые мы им придаём, и что мысли об исследовании их реальных значений приводят к путанице. Но он ещё не видел ясно различия между усвоением языковой игры и усвоением способа обозначения. И по этой причине он не мог вполне прояснить характер той путаницы, против которой он выступал.
Читать дальше
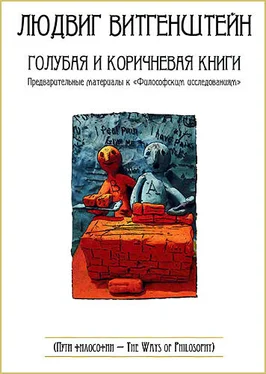

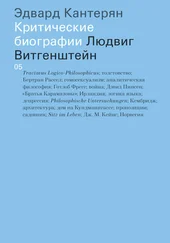
![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/386204/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre-thumb.webp)