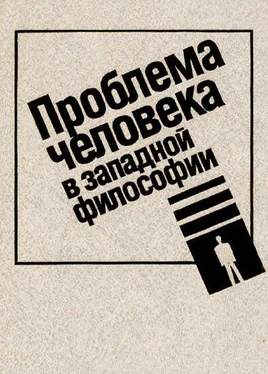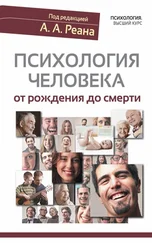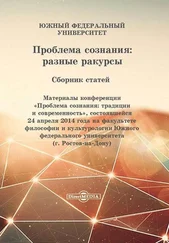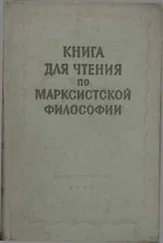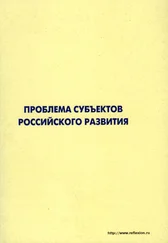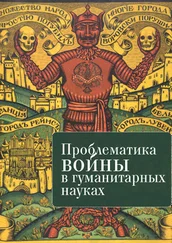Ни классическая метафизика, ни средневековая религия и теология не были готовы к решению этой задачи. Оба эти типа учений, столь различные по методам и целям, основаны на общем принципе: они трактуют вселенную как иерархический порядок, в котором человек занимает высшее место. И в стоической философии, и в христианской теологии человек описывался как венец вселенной. Оба учения настаивают на существовании провидения, властвующего над миром и судьбой человека. Эта представление — одна из основных предпосылок стоической и христианской мысли [21] О стоической концепции провидения (pronoia) см., например: Марк Аврелий. Цит. соч., кн. II, § 3.
. Все это вдруг было поставлено под вопрос новой космологией. Претензия человека на то, чтобы быть центром вселенной, потеряла основания. Человек помещен в бесконечном пространстве, в котором его бытие кажется одинокой и исчезающе малой точкой. Он окружен немой вселенной, миром, который безмолвно безразличен к его религиозным чувствам и глубочайшим моральным запросам.
Вполне понятно, и даже неизбежно, что первая реакция на эту новую концепцию мира могла быть только отрицательной: сомнение и страх. Даже величайшие мыслители не были свободны от этих чувств. «Вечное безмолвие этих бесконечных пространств страшит меня», — говорил Паскаль [22] См.: Паскаль. Цит. соч., гл. XXV, разд. 18.
. Коперниковская система стала одним из самых мощных орудий философского агностицизма и скептицизма, которые развились в XVII веке. В своей критике человеческого разума Монтень использовал все хорошо известные традиционные аргументы греческого скептицизма. Но он использовал и новое оружие, которое в его руках доказало свою огромную силу и первостепенную важность. Ничто не может так унизить нас и нанести столь чувствительный урон гордости человеческого разума, как беспристрастный взгляд на физический универсум. «Пусть он (человек. — прим. перев. ), — говорит Монтень в знаменитом отрывке из „Апологии Раймунда Сабундского“, — покажет мне с помощью своего разума, на чем покоятся те огромные преимущества, которые он приписывает себе. Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой светил, этот грозный ропот безбрежного моря, — что все это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его услугам? Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой вселенной, даже маленькой частицы которой оно не в силах познать, не то что повелевать ею!» [23] Монтень М. Опыты. Кн. II, гл. XII. Русск. пер.: Монтень М. Опыты: в 3-х кн. Кн. 1 и 2. М.: «Наука», 1979, с. 390 (пер. Ф.А. Коган-Бернштейн).
.
Человек всегда склонен рассматривать свое ближайшее окружение как центр мироздания и превращать свою отдельную частную жизнь в образец для всей вселенной. Но он должен отбросить эту напрасную претензию, этот жалкий провинциальный путь мышления и суждения.
«Когда виноградники в наших селениях побивает мороз, приходский священник тотчас же заключает, что кара божья низошла на весь род человеческий… Кто же, видя наши распри со своими соплеменниками, не воскликнет: „Мировая машина разладилась и близок судный день!..“ Однако лишь тот, кто мог представить в фантастической картине великий образ нашей матери-природы, во всем ее величии и блеске, кто усматривал в ее лике столь значительные и постоянные изменения, кто наблюдал себя в этом портрете, да собственно и не себя одного, а целое царство (словно легкий штрих на общем фоне) — лишь тот сможет оценить вещи сообразно с их истинной ценностью и величием» [24] Там же, кн. I, гл. XXV, с. 68.
.
Слова Монтеня дают нам ключ ко всему последующему развитию современной теории человека. Современная философия и наука должны были принять вызов, содержащийся в этих словах. Им пришлось доказывать, что новая космология вовсе не преуменьшает силу человеческого разума, а, напротив, упрочивает и подтверждает ее. Так возникла задача соединить усилия метафизических систем XVI и XVII столетий. Эти системы избирают различные пути, но направляются к общей цели. Они как бы стремятся обернуть в новой космологии явное зло во благо. Джордано Бруно был первым мыслителем, вступившим на эту тропу, которая в определенном смысле стала дорогой всей современной метафизики. Для философии Джордано Бруно характерно как раз то, что термин «бесконечность» меняет здесь свое значение. Для классической греческой мысли бесконечность — чисто негативное понятие: бесконечность бессвязна и недетерминирована; она лишена границы и формы, а значит, и недоступна для человеческого разума, который обитает в области форм и ничего, кроме форм, постичь не может. В этом смысле конечное и бесконечное, peras и apeiron упоминаемые в платоновом «Филебе», — это два фундаментальных принципа, необходимо противостоящих друг другу. В учении Бруно бесконечность больше не означает отрицание или ограничения; напротив, она означает неизмеримое и неисчислимое богатство реальности и неограниченную силу человеческого интеллекта. Именно так Бруно понимает и истолковывает учение Коперника. Это учение, согласно Бруно, было первым и решающим шагом к самоосвобождению человека. Человек не живет отныне в мире как узник, заточенный в стенах конечного физического универсума. Он способен пересекать пространства, прорываться через все воображаемые границы небесных сфер, которые были воздвигнуты ложной метафизикой и космологией [25] Подробнее см.: Cassirer Ε. Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Leipzig, 1927. S. 197 ff.
. Бесконечный универсум не полагает границ человеческому разуму — напротив, он побуждает разум к движению. Человеческий интеллект осознает собственную бесконечность, соразмеряя свои силы с бесконечным универсумом.
Читать дальше