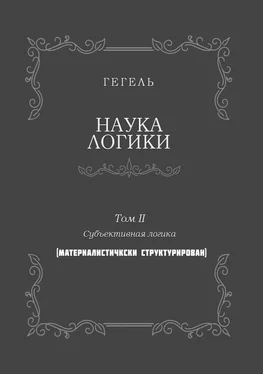Вместе с воспроизведением, как моментом единичности, живое полагает себя как действительную индивидуальность, как соотносящееся с собой для–себя–бытие; но вместе с тем оно есть реальное соотношение, направленное во–вне , рефлексия особенности или раздражимости по отношению к некоторому другому , по отношению к объективному миру. Замкнутый внутри индивидуума процесс жизни переходит в отношение к пред–положенной объективности как таковой вследствие того, что индивидуум, полагая себя как субъективную тотальность, становится также и моментом своей определенности как соотношения с внешностью, — становится тотальностью .
Формируя себя внутри самого себя, живой индивидуум тем самым вступает в напряженные отношения к своему первоначальному пред–положению и противопоставляет себя как в–себе–и-для–себя–сущего субъекта пред–положенному объективному миру. Субъект есть самоцель, понятие, имеющее в подчиненной ему объективности свое средство и свою субъективную реальность. В силу этого он конституирован как в–себе–и-для–себя–сущая идея и как существенно самостоятельное, по отношению к которому пред–положенный внешний мир обладает лишь ценностью чего–то отрицательного и несамостоятельного. В своем самочувствии живое существо обладает этой уверенностью относительно в–себе–сущей ничтожности противостоящего ему инобытия . Его влечение есть потребность снять это инобытие и сообщить себе истину указанной уверенности. Индивидуум как субъект есть пока что только понятие идеи жизни; его субъективный процесс внутри себя, в котором он живет самим собой, и непосредственная объективность, которую как естественное средство он полагает соответственной своему понятию, опосредствованы тем процессом, который соотносится с полностью положенной внешностью, с безразлично стоящей рядом с ним объективной тотальностью.
Этот процесс начинается с потребности , т. е. с того момента, что живое существо, во–первых , определяет себя, полагает себя, стало быть, как подвергшееся отрицанию и этим соотносится с некоторой другой по отношению к нему, безразличной объективностью, но что оно, во–вторых , вместе с тем не потерялось в этой потере самого себя, сохраняет себя в ней и остается тождеством равного самому себе понятия; в силу этого оно есть влечение положить для себя , положить равным себе указанный другой по отношению к нему мир, снять этот мир и объективировать себя . Вследствие этого самоопределение живого имеет форму объективной внешности, а ввиду того, что оно вместе с тем тождественно с собой, оно есть абсолютное противоречие . Непосредственное образование есть идея в ее простом понятии, соответственная понятию объективность; таким образом, оно от природы хорошо . Но так как его отрицательный момент реализует себя в виде объективной особенности, т. е., так как каждый из существенных моментов его единства сам по себе реализован в виде тотальности, то понятие раздвоено на абсолютное неравенство понятия самому себе, а так как понятие есть в равной мере абсолютное тождество в этом раздвоении, то живое существо есть для самого себя это раздвоение и обладает чувством этого противоречия, каковое чувство есть боль . Боль есть поэтому привилегия живых натур; так как они суть существующее понятие, то они суть действительность, обладающая такой бесконечной силой, что они внутри себя суть отрицательность самих себя, что эта их отрицательность имеет бытие для них и что они сохраняют себя в своем инобытии. — Если говорят, что противоречие немыслимо, то нужно сказать, наоборот, что в боли, испытываемой живыми существами, оно есть даже некоторое действительное существование.
Это расщепление живого внутри себя есть чувство , когда это расщепление вобрано в простую всеобщность понятия, в чувствительность. С болью начинаются потребность и влечение , составляющие переход к тому, чтобы индивидуум, выступая для себя как отрицание самого себя, в такой же мере выступал для себя также и как тождество с собой, — такое тождество, которое имеет бытие только как отрицание того отрицания. — Тождество, имеющееся во влечении как таковом, есть субъективная уверенность в самом себе, согласно которой живое существо относится к своему внешнему, безразлично существующему миру, как к явлению, как к некоторой, в себе чуждой понятию и несущественной действительности. Этот мир должен получить в себя понятие только через субъект, который есть имманентная цель. Безразличие объективного мира к определенности и тем самым и к цели составляет его внешнюю способность к тому, чтобы быть соответственным субъекту; какие бы спецификации он ни содержал в себе в других отношениях, его механическая определяемость, недостаток свободы имманентного понятия составляют его бессилие сохранить себя против живущего. — Поскольку объект выступает по отношению к живому прежде всего как некоторая безразличная внешность, он может механически воздействовать на него, но тогда он действует на него не как на живое; поскольку же он имеет отношение к последнему, он действует не как причина, а лишь возбуждает его. Так как живое есть влечение, то внешность доходит до него и входит внутрь его лишь постольку, поскольку она уже сама по себе есть в нем; поэтому воздействие на субъект состоит лишь в том, что последний находит соответственной представившуюся ему внешность; если она и не соответственна его тотальности, она все же необходимо должна соответствовать по крайней мере некоторой особенной стороне в нем, а эта возможность заложена в том, что он, именно как относящийся внешним образом, есть некоторое особенное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу