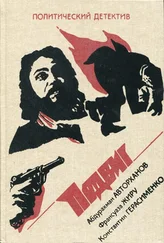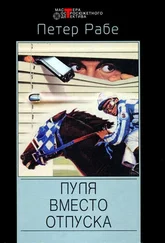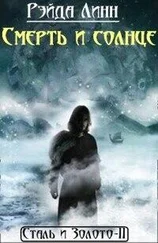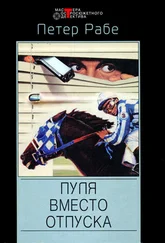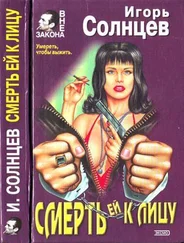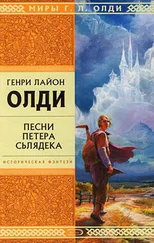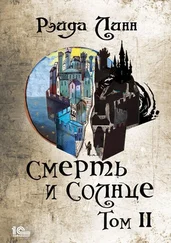Разве согласятся с этим сторонники прогрессивного единомыслия, выдаваемого за царство интеллектуальной свободы? Ведь в Интернете большинство людей довольствуются «лайками», что соответствует слову «аминь» у первых христиан: «Мне нравится. Воистину так».
Но когда зарабатываешь на жизнь собственными книгами, нельзя теряться в массе, укрываясь под «ником» и обеспечивая себе иллюзию спокойной жизни среди трех тысяч друзей с помощью «одобрямсов». Весь мир сегодня, как говорит Слотердайк, – глобальный рынок тем. И ты должен непрерывно предлагать новые темы, доказывая их актуальность. Или, на худой конец, интересно и неожиданно раскрывать темы, уже набившие оскомину. Известность будет обеспечена, если ты начнешь хвалить то, что все ругают, утверждать прямо противоположное общепринятому, выступать в одиночку против всего мира. Вот тогда ты сразу станешь заметен – словно камень посреди бурной горной реки, вокруг которого взлетает фонтаном и постоянно бурлит, негодуя, вода.
Быть против всех – условие необходимое, но недостаточное.
Надо быть против интересно и увлекательно.
Петер Слотердайк – именно такой камень посреди бурного потока общественного мнения. О него этот поток с шумом разбивается и взлетает целой тучей брызг, создавая радужный ореол. Петер Слотердайк – мыслитель протеста. Он никогда не старался быть в струе . Наоборот, он всегда был вне ее . Он обосновал эту свою позицию в книге, которая предлагается вниманию читателя. Он написал, что ныне единство общества основывается не на коллективном труде, как в XIX веке, поскольку таковой прекратился, став коллективным виртуально, а на одинаковом реагировании всего общества на скандальные известия, которые для тестирования монолитности сообщества время от времени публикуют средства массовой информации. Вот вам факт Х: «В момент Т в месте Р субъект А наблюдал событие В». Ах какой ужасный скандал! Девяносто процентов радиослушателей/телезрителей негодуют! Просто прекрасно: общество у нас, выходит, здоровое и монолитное.
Слотердайк говорит, что просто пропускать сквозь себя эту волну опасно: никто не ведает, какой силы она может достичь, обойдя с помощью массмедиа земной шар несколько раз за день. Поэтому мыслитель должен выступать в роли «волнореза». Нет, он не должен просто быть «против», потому что образ врага создается теми же СМИ для раззадоривания тех, кто «за». Чтобы быть «волнорезом», надо сбивать с толку, радикально не совпадать с колебаниями волны, с ее амплитудой – показывая новое измерение и неожиданную глубину темы.
Так что Слотердайк не просто противостоит всеобщему мнению. Он переоценивает ценности – самые что ни на есть фундаментальные, – предварительно «реконструировав» их с размахом и с большим вкусом. Как и подобает дизайнеру.
Немецкие участники симпозиума, который был посвящен философии Ф. Ницше и проходил в конце апреля 2014 года в том же Санкт-Петербургском университете, отказались называть Слотердайка философом – хотя тот и написал целую монографию о певце «вечного возвращения». Написать-то написал, но одно название чего стоит: «Мыслитель на сцене»! А ведь сам Ф. Ницше, в отличие от своего старшего друга Р. Вагнера, на сцену не выходил. Значит, Слотердайк говорит о Ф. Ницше как сценическом философе в переносном смысле. Он, Ф. Ницше, живет вдали от людей, в одиночестве или в кругу немногих друзей, – но при этом постоянно находится на сцене! Он мыслитель сценический – или, как говорят ныне, – подиумный. Он создан для постоянной публичной дискуссии, он хвалится своим умением воевать.
Слотердайк – ученик Ф. Ницше. В этом – тоже.
Он непрерывно воюет с целым миром философов – и потому известен всем. Он – мастер театрального философствования. И в этом он тоже идет вразрез с академической, университетской философией. Ведь университеты вышли из монастырей – и сохраняли до недавнего времени монастырскую этику. (Лишь буйное вторжение в университетскую сферу американцев-протестантов, их стремление превратить Церковь в вид производства, написав на деньгах «мы верим в Бога», а университеты – как светские монастыри – сделать пунктами оказания стандартных образовательных услуг, вроде прачечных, привнесло в аудитории соответствующую этику и манеры.)
Классическая, то есть квазимонастырская университетская этика отрицает броское шоу. Она, наоборот, предполагает демонстративное смирение и самоуничижение – то есть шоу особого рода. Говорить о себе «я» университетская традиция запрещает: даже на защите диссертаций блюстители строгого стиля говорят о себе «мы». Хвастовство (по-современному – «презентация») в университете неприлично. Пусть тебя похвалят другие – а ты должен встать и сказать: «Не за что меня хвалить, есть более достойные люди; да вон, кстати, они сидят». Столь же неприлично в университете и попрошайничество (выражаясь общепринятым языком, стремление «получать гранты»). Неприлична любая реклама собственных достижений (ведь истинное познание есть послушание и служение Богу; Он знает, кто что познал из загаданных Им загадок, и вознаградит вниманием позднее, а людское мнение значения не имеет).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Павел Щеголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/27714/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie-thumb.webp)