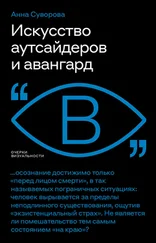Ошибочно было бы полагать, что трансцендентальное Я образует своего рода ядро эмпирического человеческого существования, возражает Гуссерль Хайдеггеру. У человека, который живет и действует в мире, нет «возможности» стать трансцендентальной субъективностью, конституирующей мир. Трансцендентальное и мирское радикально различны, но тем не менее области человеческого и вне-человеческого перекрываются, образуя взаимопроникновение одного и другого, «одно в другом» [49] “das transzendentale Ineinander von Menschentum und transzendentale Subjektivität” (HUA XXXIV S. 290).
; если в позиции Хайдеггера и содержится «зерно дурно истолкованной истины» [50] “ein Kern einer misbeuten Wahrheit” (Ibid.).
, то с точки зрения Гуссерля его следует понимать именно так. Но как именно следует понимать эту «встроенность друг в друга» человеческого и трансцендентального? Здесь мы снова сталкиваемся с трудностью, которая сопротивляется сугубо логическому изложению. Черновые заметки сентября 1931 года, посвященные «трансцендентальной кажимости», полны отнекиваний:
Мы, люди, не конституируем мир. Утверждать это было бы абсурдно, и все же мы можем и должны сказать: мы конституируем мир <���…> мы сами и есть трансцендентальные субъекты, мы должны <���…> освободить наше трансцендентальное бытие в качестве субъективности, которая и конституирует все смыслы <���…> тут и возникает та фальшивая кажимость, будто трансцендентальное бытие составляет самое внутреннее ядро человека <���…> я исполняю ἐποχή, и вот я о себе, исполняющем это ἐποχή, осмысляя (рефлектируя), должен сказать: я в ἐποχή – уже не я, не человек [51] HUA XXXIV S. 289, 290, 291, курсив автора.
.
Речь идет о чем-то, что на простом (немецком) языке, на языке, «не очищенном от всякого мирского смысла» [52] HUA XXXIV S. 291.
, выразить трудно или же невозможно – но в то же время решительно необходимо. Исполняя редукцию, я остаюсь самим собой и все же не остаюсь самим собой; Гуссерль хочет быть верным опыту и потому формально противоречит сам себе. Переход от моей собственной жизни к жизни уже не моей оказывается невозможен или, по крайней мере, немыслим.
Как же ответить на вопрос «кто конституирует мир» так, чтобы этот ответ имел смысл? Финк в «Шестой Картезианской медитации» дает такой ответ: мир конституируется «являющейся» трансцендентальной субъективностью [53] Fink Е. VI Cartesianische Meditation. S. 127.
, то есть трансцендентальным наблюдателем, который является нам под видом человеческого, мирского субъекта. Возвращаясь из трансцендентальной установки в естественную, человеческий субъект «забывает» о своем трансцендентальном происхождении и «обмирщается» [54] Ibid.
. Такой ответ хорош тем, что он полностью сохраняет различие между естественным и неестественным, мирским и трансцендентальным [55] А также ставит проблему кажимости qua кажимости; подробнее см. стр. 80-119.
, однако Гуссерль не спешит полностью соглашаться с Финком. Задача, которую Гуссерль ставит перед собой, не сводится к сохранению бытийного различия между трансцендентальной субъективностью и мирским человеческим субъектом; доступ к трансцендентальной жизни означает прежде всего доступ к новому виду опыта. Но этот новый гетерогенный опыт – уже не вполне человеческий и тем самым не вполне мой собственный – постоянно ускользает от описания. Гуссерль предлагает все новые и новые дескрипции редукции; он использует все новые и новые метафоры, подчеркивающие разные оттенки опыта.
В 1926 году такой метафорой была метафора расщепления [56] HUA XXXIV S. 41–42, 74 и 81.
: жизнь сознания описывалась Гуссерлем как расщепленная на низший слой, слой обыденной жизни, соответствующий естественной установке, и высший слой, слой трансцендентальный, от которого мы рано или поздно должны вернуться к обыденной жизни. Речь шла о своеобразной переоценке естественной (и научной) установки [57] См. предисловие Люфта к HUA XXXIV S. XXXI.
: естественная установка представала как установка, которую нужно не столько отвергнуть, сколько увидеть в ней одну из ступеней доступа к трансцендентальной жизни. Неоднородность опыта передавалась Гуссерлем в терминах различия установок, которые сосуществуют в сознании [58] См. интересную метафору «двойной бухгалтерии» HUA XXXIV S. 16 и Chernavin G. La phenomenologie en tant que philosophie-entravail. Amiens: Association pour la Promotion de la Phenomenologie, 2014.
и «переплетаются друг с другом» [59] HUA XXXIV S. 143.
, причем на передний план выходит то одна, то другая. В итоге возникает «переплетение» или даже «перекрытие» (Ineinander) трансцендентального и естественного: человек-феноменолог, живущий обыденной жизнью в обыденной установке, постепенно вырабатывает «привычку» к трансцендентальной жизни [60] HUA XXXIV S. 16.
и мало-помалу начинает узнавать в естественной жизни один из модусов жизни трансцендентальной [61] HUA XV S. 157.
. Однако к началу тридцатых годов метафора «переплетения» уходит из черновиков Гуссерля; зато возникает другой мотив: мое бытие перестает быть только моим и начинает описываться в терминах «нашего» бытия или же «бытия друг для друга» [62] Füreinandersein, HUA XV S. 191. О важности этой темы см. Depraz N. Transcendance et incarnation. Paris: Vrin, 1995. P. 220 sq.
.
Читать дальше
![Анна Ямпольская Искусство феноменологии [litres] обложка книги](/books/389252/anna-yampolskaya-iskusstvo-fenomenologii-litres-cover.webp)

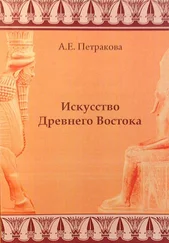

![Анна Велес - Чат с мертвецами [litres]](/books/384189/anna-veles-chat-s-mertvecami-litres-thumb.webp)
![Анна Руэ - Очень необычная школа [litres]](/books/385117/anna-rue-ochen-neobychnaya-shkola-litres-thumb.webp)
![Анна Шнайдер - Тьма императора [litres]](/books/385197/anna-shnajder-tma-imperatora-litres-thumb.webp)
![Анна Хогтон - Маска Арибеллы [litres]](/books/386408/anna-hogton-maska-aribelly-litres-thumb.webp)
![Анна Велес - Магия крови [litres]](/books/389326/anna-veles-magiya-krovi-litres-thumb.webp)
![Анна Велес - Путь в Камелот [litres]](/books/390511/anna-veles-put-v-kamelot-litres-thumb.webp)
![Анна Минаева - Неправильная ведьма [litres]](/books/390514/anna-minaeva-nepravilnaya-vedma-litres-thumb.webp)
![Анна Ветлугина - Яблоко возмездия [litres]](/books/392098/anna-vetlugina-yabloko-vozmezdiya-litres-thumb.webp)