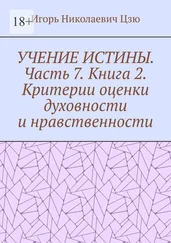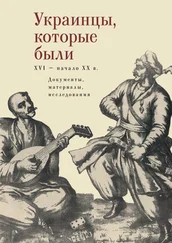Во всех рассуждениях о науке вообще, о гуманитарном знании и в особенности о философии крайне важно постоянно удерживать в поле зрения этот совершенно особый статус самоценности, более определенно выраженный только в искусстве. В этом смысле вопрос: зачем нужна философия в его прикладном, утилитарном значении во многом просто некорректен, поскольку адресуется к высшей, предельной форме чистой интеллектуальной активности. В свое время, еще будучи в аспирантуре, я постоянно сталкивался с целой командой физиков того же возраста, требовавших ответа, зачем им как профессионалам в своей области нужна философия. Без каких-либо ссылок они, по сути, воспроизводили классическую позитивистскую формулу «наука сама себе философия». Но даже если оставить пока в стороне вопрос о том, что позитивная наука всегда неявно содержит в себе философские позиции как невысказанные идеологические суждения и постулаты, как неэлеминируемые теоретические термины и положения, отчасти срабатывал в таких дискуссиях именно довод о некорректности самой постановки вопроса: с точки зрения познания как такового вопрос формулируется обратным образом – это наука работает на философию, задача которой состоит в построении максимально полной и по возможности «завершенной» картины мира, включающей сознание и познающего субъекта в качестве неотъемлемой и активной составляющей. Сейчас, после всех перипетий неклассики и постмодерна в таких терминах и понятиях уже вообще мало кто рассуждает, но тем не менее аргумент самоценности остается. С таким же успехом можно спрашивать, зачем нужны нефигуративная живопись или, скажем, музыка, если это не марши. И даже если принять, например, что музыка нужна для танцев, тут же встает вопрос о том, зачем нужны сами эти танцы. Без категории самоценности здесь вообще невозможно понять смысла целого ряда наиболее авторитетных и изысканных человеческих занятий. Если этого не понимать, «результативность» танцев придется измерять по приросту мышечной массы и числу состоявшихся знакомств, заключенных браков и вкладу в решение демографической проблемы. Идеология «аудита результативности» на начальной стадии реформы РАН примерно так и выглядела; более того, от рецидивов такого утилитаризма в полной мере не избавились до сих пор.
В качестве эмпирического аргумента можно привести тот факт, что по негласным, но всеобщим оценкам лучшие, самые сильные, изощренные и проницательные умы в истории человечества принадлежали именно философии. В известном смысле и все по-настоящему великие ученые в какой-то момент становились в своей науке, а то и вне ее именно философами – или не были великими. Причем они становились философами именно в тот момент, когда они, выходя на предельные обобщения, вдруг вскрывали возможность сомнения в отношении очевидностей – того, что «понятно» всем, разумеется «само собой», а потому не промысливается.
Эту функцию философии как критики очевидностей можно с полным правом генерализировать. Если гигантские слои непромысливаемого «само собой разумеющегося» присутствуют даже в науке, можно представить, какие залежи всего этого филистерского интеллектуального богатства складированы мертвым грузом в обыденном сознании. В том числе в бесчисленных архетипах и штампах сознания, имеющего дело с культурой, политикой, экономикой, социальными отношениями и пр.
В этом смысле философия работает как в отношении конкретных мыслительных клише, так и в качестве деятельности, культивирующей и собственно рефлексию, и интеллектуальную дисциплину как таковую. В таком ракурсе философия оказывается наиболее беспощадной и требовательной к себе разновидностью мышления, познания и самопознания. Даже позитивная наука дает себе известные поблажки, не доходя до предельных оснований, а то и вовсе отказываясь их обсуждать как мешающие решать текущие познавательные, исследовательские задачи. Философия по мере сил дает образцы такой бескомпромиссности и тем самым тренирует в человечестве способность прикладывать максимально концентрированные усилия по выходу за пределы очевидного.
Для России это всегда было особенно актуально: «И позже всего просыпается в русской душе логическая совесть – искренность и ответственность в познании» [3] Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж. 1937. С. 501.
. Г. Флоровский рассматривал эту беду русского катастрофизма предельно широко – как свойство души крайне впечатлительной, а потому не успевающей вернуться к себе. Отсюда удивительная последовательность именно в отречениях и верность интеллектуальными изменам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу