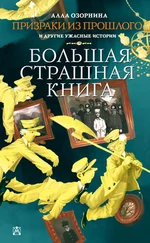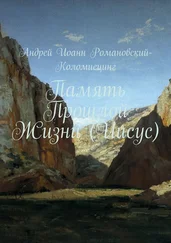И действительно: не помнить невозможно. Мы словно обречены всегда что-то да помнить, даже если эта память существует латентно, потенциально, смутно. Сама способность памяти оказывается очень прихотливой: если припомнить забытое силой воли мы ещё можем, то забыть нечто подобным образом совершенно невозможно. Анекдот о Канте, пытавшемся забыть своего нерадивого слугу с помощью соответствующей надписи, лишь подтверждает фиаско великого исследователя тайн человеческого сознания. И если Хайдеггер понимал смерть как неустранимую и непереложимую на других собственную возможность бытия-целым, то столь же неустранимой и неподвластной воле оказывается память, онтологически схватываемая как бытие-помнящим. Человек, стало быть, существо не только смертное, но и помнящее: не могущее не умереть, не могущее не помнить. Правда, в отличие от смерти, ставящей меня всегда перед самой моей возможностью быть самим собой , память, хоть и моя, отсылает к другому как собственнику этой «невозможной» памяти. Почему так? Дело в том, что память различает. Собственно, именно вспоминая мы впервые оказываемся в разрыве между настоящим и прошлым, между собой и другим. Именно память даёт ощущение полной и неизменяемой инаковости; если настоящее может быть бесконечно интерпретироваться, варьироваться в сознании, по- и при-ниматься так и этак, то прошлое при всей его фантомности и беззащитности для сознания обладает одним могучим онтологическим щитом: оно было и с этим ничего не поделаешь. Сегодня у меня есть выбор всего, свобода ко всему, но своё вчера мне уже не выбрать. Сегодня я сам отмеряю меру другости других, окружающих меня, враждуя, дружа или игнорируя их, но прошлые другие защищены от всего этого своей абсолютной другостью, недоступной становящемуся. Спросят: а на каком основании, собственно, другие были ? Может их, в отличие от сегодняшних других, которых я хотя бы могу видеть, и не было вовсе? Где доказательства? В ответ лучше всего вспомнить, как современные теологи решают проблему бытия Бога, этого Великого Другого западной цивилизации. Все согласны, что любое доказательство бытия божьего не достигает своей цели, ни будучи подтверждённым, ни будучи опровергнутым. Вопрос существования Бога это вопрос исключительно веры в него; аналогично этому, вопрос существования другого это вопрос исключительно памяти о нём. Таким образом, память другого акогнитивна и занимает особый регион сознания, несмешиваемый со всеми прочими. В дальнейшем, называя память другого, память прошлого или историческую память, мы будем иметь ввиду именно этот тип памяти, онтологический и трансцендентальный, как будет ещё прояснено далее, и отличный от памяти психологической, памяти когнитивной и воображающей. Последний вид памяти делает возможным науку, первый – историю 7 7 Историю, опять-таки, не как науку, но как форму жизни.
. Один делает нас познающими субъектами, другой – историчными. Проблемами разграничения, уточнения и определения вышесказанного и займётся предлагаемое исследование.
Цель исследования —обосновать приоритетность акцента на историческую память, помнящую о прошлых других, для понимания смысла нашей историчности и исторического сознания в целом.
Достижение этой цели предполагает необходимость постановки и решения нескольких задач:
обозреть возможные теории историчности в трансцендентальной философии истории и обозначить ключевые элементы, подлежащие дальнейшему истолкованию;
исследовать различные типы памяти с точки зрения их историчности;
проанализировать феномен мифологического сознания и его участие в мифогенной трансмиссии;
раскрыть смысл других в истории и изучить их историчный априоризм;
дать набросок темпоральной онтологии в свете генерального понимания историчности;
обобщить определённые историчные априори и способности в виде трансцендентальных схем.
Объектомисследования выступают мифологическое и историческое сознание, а также способности памяти, воображения и познания.
Предметисследования – взаимосвязь памяти и прошлых других с точки зрения историчности сознания.
Методологияисследования носит комплексный характер и опирается на три фундаментальные стратегии: антропологический трансцендентализм, классическую и постклассическую феноменологию, герменевтику исторического бытия. Междисциплинарный характер работы предопределяет в каждом конкретном случае выбор того или иного метода в зависимости от ракурса рассмотрения, характера объекта исследования и особенностей поставленной задачи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
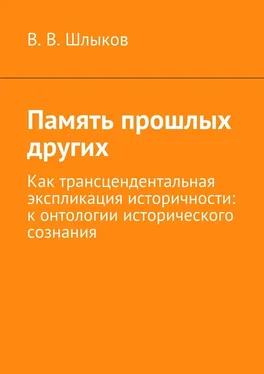




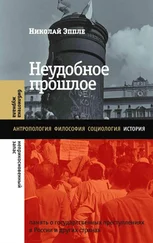
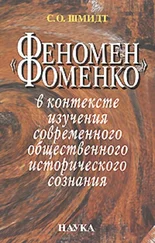
![Алла Озорнина - Призраки из прошлого и другие ужасные истории [litres]](/books/432636/alla-ozornina-prizraki-iz-proshlogo-i-drugie-uzhasny-thumb.webp)