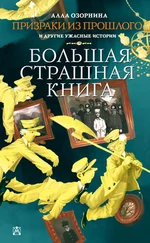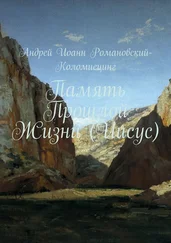Почему другой – эта относительно новая для западной философии онтологическая категория, однако уже успевшая стать чуть ли не визитной карточкой её современной, постмодернистской стадии 4 4 Подходами к ней можно считать категорию «ты», встречаемую у Фейербаха и Бубера.
? То, что другой постоянно и опасно балансирует на грани между Другим (с давних пор известным как Бог, а затем принимавшим форму Государства, Дикаря, Сообщества) и людьми 5 5 Это хороший перевод хайдеггеровского das Man (см. его обоснование в Хайдеггер, БиВ, 450). Мы, однако, в дальнейшем используем другой перевод: каждый .
(ставшими слишком заметными в последний век «масс и толп»), и то, что эта неуверенность определяет амбивалентность любого о нём дискурса, есть вещи настолько известные и знаковые, что едва ли стоит их здесь подробно озвучивать; однако мы всё же намерены сделать противостояние «я-другой» более ясным и оформленным. Для этого мы и будем мыслить другого как прошлого другого , а прошлое, соответственно, как прошлое (бытие) другого. Иными словами, другой-в-прошлом это и есть само прошлое – как то, что было до меня, не со мной и не моё. Однако оно было , и в этом заключается неотменяемая данность другого, данность, разумеется, не наличная, как если бы этот другой стоял сейчас передо мной, требуя, вопрошая или приказывая, и мой отношение к этому могло бы свестись к известной экзистенциальной проблеме выбора, условно обозначаемой дилеммой «друг-враг». Настоящих (современных) других я могу выбирать, и именно поэтому они не могут быть настоящими (подлинными) другими ; эти же – вне моей компетенции, моей симпатии или выбора. Метафорически мы существуем в параллельных вселенных: я настоящий, они прошлые, я есмь, они были, я становлюсь, они уже-есть. Вдобавок, то, что является неопределённым пространственным парадоксом, вполне определено темпорально: я в конце истории, они в начале 6 6 Речь не только о тезисах Фукуямы; вся традиционная историография густо замешана на трёх-четырёх циклических эпохах и отождествлении последней из них с текущим моментом истории. Напротив, в изначальном прошлом «находятся» всегда те, кто представляются как иные, особенные, получеловеческие.
. Поэтому тот самый онтологический разрыв, который разделяет меня-настоящего и других-прошлых, и есть степень несобственности моего знания о них, других, которое я предлагаю отождествить с исторической памятью.
Тут возникают два достаточно разноплановых вопроса: какой интерес мне в прошлых других, коли они натурально мертвы и всего лишь были когда-то ; и в какой степени несобственное знание о других, неважно каким образом оно может быть получено: аналогией ли, аппроксимацией или прямым усмотрением, оправдано называть памятью, коя ведь всегда ассоциировалась с воспроизведением живого опыта индивидуального субъекта? Конечно, в этом опыте я обязательно имел дело с другими, сейчас необратимо прошлыми, но ведь речь идёт, как постепенно становится понятно, о том сонме других, что никогда не были и не могли быть по причине своей темпоральной удалённости объектами моего живого опыта. Речь, стало быть, идёт ни много ни мало о некоем мнемическом апокатастазисе , воскрешении и удержании в памяти всех прошлых, чьё неотчуждаемое бытие-было только одно способно придать реальный вес и объём моему проблематичному становлению-сейчас . То, что это именно так или должно быть так, будет являться второй главной задачей настоящего исследования, задачей-максимумом, разрешение которой напрямую зависит от того, какой предстанет перед нами история без покровов анархии и провиденциализма, история с точки зрения историчности. Такая история будет интегрирующей от всей суммы прошлой жизни, жизни прошлых других, и её реальное воздействие на моё незавершённое бытие будет определяться тем импульсом, которым она сумеет отодвинуть пределы моей завершённости, сиречь конечности. Ещё раз: единственное, на что может и должна быть способна история, понимаемая как сумма памяти прошлого, это диверсификация моего бытия-становления, бытия, обременённого будущим. Неснимаемое прошлое, только и могущее наделить меня неопределимым будущим – такой археофутуризм позволит нам, современным, быть не броуновскими молекулами, хаотично сталкивающимися и разбегающимися, но сообществом «разных и непохожих», которые, однако, по крайней мере одно дело должны делать вместе: помнить .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
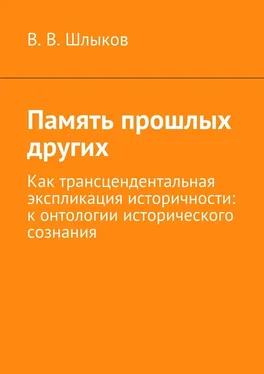




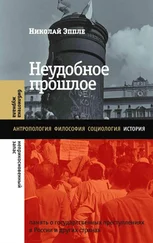
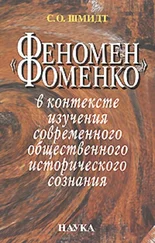
![Алла Озорнина - Призраки из прошлого и другие ужасные истории [litres]](/books/432636/alla-ozornina-prizraki-iz-proshlogo-i-drugie-uzhasny-thumb.webp)