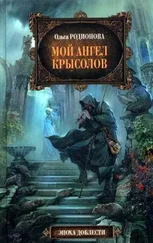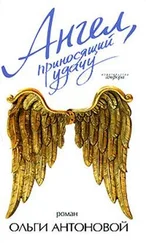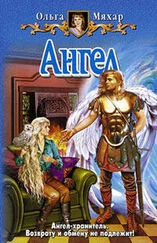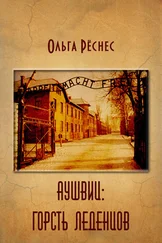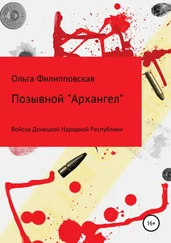Современное «научное мышление» никогда не додумывает до конца ни понятие свободы, ни понятие человека, трактуя эти понятия раздельно друг от друга. И даже указывая на то, что мир состоит не из одного только физического бытия, «научное мышление» оперирует понятиями, приложимыми к одной только «физической реальности» и не приложимыми к реальности духовной, следовательно, это «научное мышление» остается всецело материалистическим. В рамках такого мышления никогда не появится возможность взгляда на человека как на свободный дух, но всегда «учитывается» обусловленность выбора человеком его идей миром его восприятий. Человек не «сам» но «благодаря», – такова установка современной науки, и это – установка на несвободу. До тех пор, пока «научное мышление» не отбросит свои материалистически ориентированные способы и критерии, свободное научное исследование будет оставаться в области невозможного. Свободный ум, это тот, кто следует, в эйнштейновском, «надличном», смысле самому себе. Да и может ли полное бытие человека определяться без него самого? Свобода не дается человеку, подобно его телу, «от природы», и не познается поэтому пригодными для природопознания средствами. Свобода есть внутреннее деяние человека: его духовное обретение себя. Внутренний импульс к свободе – это и есть импульс Христа , переживаемый индивидуально, вне связи с телесной организацией человека. И если наука проходит мимо этого акта, она тем самым обрекает себя на досадную односторонность. В силу этой ущербности «научного мышления» только и появляются такие заведомо бесплодные устремления, как создание искусственного интеллекта, в перспективе приравниваемого к человеческому. При этом не учитывается как раз то, что человек потому и является человеком, что у него есть возможность свободы, и эта возможность есть только у него. Человек ввергнут в физическое бытие ради обретения свободы и морали, и он призван своим развитием внести эти новые качества в Макрокосмос.
Как существо двоякое, относящееся к миру «физической реальности» и к миру идей, человек следует побуждениям либо извне, либо изнутри, со стороны своих интуиций. В первом случае, даже если речь идет о «неопровержимости» тех или иных законов, нравственных заповедей, человек поступает несвободно, то есть вопреки своей индивидуально человеческой природе, и основанное на этом познание имеет лишь ограниченную, если не иллюзорную, ценность. Таковы «предсказания» новейшей «теории суперструн»: не наблюдаемая «обычными» средствами так называемая «теневая материя» свидетельствует всего лишь о «едином материальном мире» [104] В. Н. Дубровский. Новая концепция пространства-времени на планковских масштабах расстояний. Философские проблемы физики элементарных частиц. М., 1994, с. 132.
, являясь продуктом «единого вакуума» как «целостного объекта, внутри которого в виртуальном состоянии находятся все элементарные фундаментальные объекты и их взаимодействия» [105] В. Н. Дубровский. Новая концепция пространства-времени на планковских масштабах расстояний. Философские проблемы физики элементарных частиц. М., 1994, с. 132.
.
Готовность к суждению «с тех же позиций», «согласно авторитетным источникам», без индивидуальной «внутренней пробы» истинности сказанного, означает непонимание того, что теоретизирование как таковое, мир идей, не есть «общее дело» для некоего сообщества ученых, но дело сугубо интимное: движение к самому себе как к свободному духу. Именно на этом пути осуществления своих познавательных целей, средствами своих интуиций человек вносит в научное познание элемент нравственности. Как познавательные, так и нравственные идеи, добываются из мира идей интуитивно, при этом первые имеют всеобщий характер, а вторые – индивидуальный: всеобщее переживается в нравственном индивидуально. Тем самым познание и нравственность обретают единство.
Это совершенно новое в истории познания требование: распространить процесс наблюдения на моральную деятельность человека, на его моральную фантазию. На этом пути «научная продуктивность» становится невозможной без нравственной продуктивности: свобода есть не абстрактный идеал, но «заложенная в человеческом существе направляющая сила» [106] Р. Штейнер. Философия свободы. М., АСТ, 2000, с. 630.
. Поступок, отображающий свои , вспыхивающие в индивидуальном мире идей интуиции, есть свободный поступок. И совершить свой собственный поступок можно лишь в любви к объекту познания [107] Р. Штейнер. Философия свободы. М., АСТ, 2000, с. 595.
: силы познания становятся силами любви. Эйнштейновское «горячее желание увидеть предустановленную гармонию» [108] А. Эйнштейн. Физика и реальность. М., 1965, с. 9.
овеяно как раз тем душевным строем, в котором распознается идеальная интуиция: «душевное состояние, способствующее такому труду, подобно религии или влюбленности: ежедневное старание проистекает не из какого-то намерения или программы, а из непосредственной потребности» [109] А. Эйнштейн. Физика и реальность. М., 1965, с. 9.
.
Читать дальше

![Ольга Пензина - Ангел мой [СИ]](/books/32839/olga-penzina-angel-moj-si-thumb.webp)