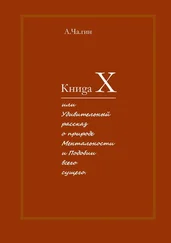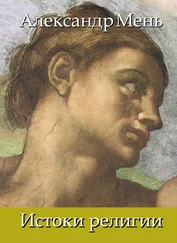Языковой опыт мира «абсолютен». Он возвышается над относительностью всех наших бытийных полаганий (Relativitäten und Seinssetzung), поскольку охватывает собой всякое в-себе-бытие, в какой бы связи (отношении) оно ни представало перед нами. Языковой характер нашего опыта мира предшествует всему, что мы познаем и высказываем в качестве сущего. [495]
Окидывая взглядом философское развитие от Гегеля через Хайдеггера к герменевтике, его можно принять за очерк историзации абсолютного гегелевского субъекта. Гегелевский субъект истории, дух, осмысливается еще отличным от событий истории. Дух у Гегеля выводит из себя это событие как событие и снимает его же в себе. [496]
Он постигает историю как другое, которое должно «отрицаться». Так и хайдеггеровский субъект истории, бытие, мыслится не тождественно с историческим событием. И хотя он, в противоположность гегелевскому духу, должен быть ничем для себя, тем не менее Хайдеггер подчеркивает, что он не растворяется без остатка в событии. Герменевтика сделала еще один шаг в этом направлении. Она рассматривает как событие именно разговор, язык, за рамками которого нет ничего сущего. И вместе с тем, поскольку вне истории нет субъекта, [497]само событие становится субъектом и должно отказаться от внеисторической достоверности. Словами Гадамера это выражено так:
Историческое бытие никогда не исчерпывается знанием себя. [498]
Это несовершенство является не недостатком рефлексии, а составляет сущность того исторического бытия, которое есть мы сами, и гарантирует вечный процесс разговора, в том числе и герменевтического, чья задача состоит в том, чтобы осмыслить возможности этого процесса. Это требует, во-первых, различать возможности языка в их многообразии феноменологически и исторически, поскольку историчность любого определенного языка и говорящего на нем есть предмет герменевтической рефлексии. Но это, во-вторых, означает для герменевтики — чтобы не следовать истории языка — рассмотрение языка как границы между сформированным языком взглядом на мир и миром в себе. И хотя языковой опыт мира абсолютен и «возвышается над относительностью всех наших бытийных полаганий (Relativitäten und Seinssetzung), поскольку охватывает собой всякое в-себе-бытие, в какой бы связи (отношении) оно ни представало перед нами», [499]хотя «языковой характер нашего опыта мира» задолго предшествует «всему, что мы познаем и высказываем в качестве сущего», [500]все же язык не тождествен с тем сущим, о котором говорится. То, что обретает язык, есть «нечто иное, чем само сказанное слово», даже если оно «в своем собственном чувственном бытии существует лишь затем, чтобы снять себя в сказанном». [501]
В повседневном разговоре мы постоянно занимаемся сущим, не осознавая противоположности между языком и сущим. В этом говорении оно ничего не знает о самом себе. Определяющее его отличие осознается только герменевтической рефлексией. Благодаря ей язык вырывается из своей анонимности и сам становится предметом обсуждения, обсуждаемым. В подлежащем обсуждению языке, правда, могут опредмечиваться определенные области внутри необоснованно установленного языкового горизонта, исторически и феноменологически анализироваться в своей исторической обусловленности, но не он сам как та «среда», которой он является, в которой объединяются Я и мир. [502]Поскольку же нет того, что было бы необходимо для этого, нет «позиции вне языкового опыта мира, которая позволила бы сделать предметом рассмотрения сам этот опыт», [503]то возникает вопрос, как при условии историчности всякого говорения должна стать возможной рефлексия универсально-онтологической структуры языка как той среды, из-за чего он считается arche. Именно потому, что герменевтика как философия есть мышление, для которого язык представляется путеводной нитью, ей необходимо ставить себе вопрос о дифференциации между пониманием «как бытийным характером человеческой жизни» [504]и пониманием как философской герменевтикой. Правда, здесь может показаться, что «отношение понимания» выступает как «изменение отношения способа разговора» и происходящее «в понимании слияние горизонта осуществляется самим языком», [505]все-таки вопрос о дифференциации двух способов понимания остается при этом нерешенным. Признается только то, что различие идет от непосредственного языкового процесса и рефлексии о языке с помощью самого языка. [506]
Этот вопрос не исключительно теоретический, им оправдывается экзистенциальный смысл герменевтики для самопонимания человека. Предмет герменевтики — это прошлое и его истолкование. Истолкование в строгом смысле есть герменевтика, так как она стремится сделать осознанным то, что вся наша воля и деятельность обусловлена прошлым. Ведь она открывает глаза на бессилие наших действий, нацеленных в будущее, «когда освобождает нас от альтернативы „делать-мочь", которую сегодня, в век современного сциентизма, проповедует наука». [507]Но открывает ли герменевтика перспективу в будущее тому, кто увидел, что наше дело, наши поступки и мысли иногда уже достигли нашего прошлого? Возможно ли вообще понять такое открытие без того, чтобы одновременно постичь понимание как творение смысла? Не требует ли это постижение чего-то большего, чего-то помимо вникания в онтологические структурные моменты, помимо понимания своей категорической рефлексии как рефлексии уже заданного непосредственным языковым смыслом?
Читать дальше
![Хаймо Хофмайстер Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего] обложка книги](/books/27715/hajmo-hofmajster-chto-znachit-myslit-filosofski-po-cover.webp)