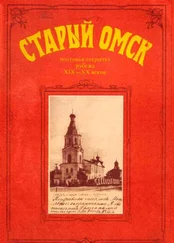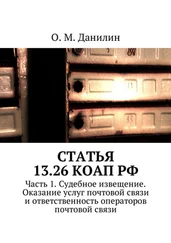«Таким образом, непрямое повествование высвечивает значение языка, а общий рассказчик не привносит ничего, чтобы это значение усилить, «по определению». Но функция рассказчика в диалоге проявляется совсем по-другому» (стр. 19).
Неверно: это уже было по-другому в первом диалоге, и Лакан не трактует одно и то же по-другому во втором диалоге. Он изображает рассказчика в виде некого приёмника-распределителя или медиума, единственная функция которого заключается в том, чтобы позволять Дюпэну жульничать, надувать нас, околпачивая пассивного рассказчика, проделывать свои трюки «в более чистой форме» в тот момент, когда он делает вид, что выставляет напоказ сам процесс, надувая нас таким образом, и рассказчика и нас, «самым правдивым образом».
«С другой стороны, что может быть убедительнее жеста, когда карты выкладываются на стол? Он настолько убедителен, что в какой-то момент заставляет нас поверить, что фокусник убедительным образом показал, как он и объявил ранее, механизм своего трюка, в то время, как он всего лишь обновил его в более чистой форме: и этот момент заставляет нас оценить верховенство значимого в сюжете.
«Таков образ действия Дюпэна…» (стр. 20).
Но какие основания считать, что рассказчик довольствуется пассивным слушанием или позволяет по-настоящему провести себя? Тогда кто позволит по-настоящему обмануть себя, с тех пор как рассказчик повествует о себе самом? И т. д.
К чему же побуждает такая нейтрализация рассказчика сам Семинар?
1. Рассказчик (сам раздвоившийся в рассказчика повествующего и рассказчика — объект повествования, не довольствующегося лишь изложением обоих диалогов), очевидно, не является ни самим автором (назовем его По), ни, что уже менее очевидно, писцом какого-то текста, который повествует нам или, скорее, дает высказаться самому рассказчику, который, в свою очередь, дает пищу для разговоров огромному количеству людей. Писец и переписка рукописи являются своеобразными функциями, которые невозможно спутать ни с автором и его действиями, ни с рассказчиком и его повествованием, и еще менее с таким своеобразным объектом, с этим пересказанным содержанием, пресловутой «реальной драмой», которую психоаналитик торопится признать в качестве «расшифрованного послания По». Пускай переписанное в целом — вымысел, поименованный Украденным Письмом , — будет укрыто, по всей своей поверхности, повествованием, в котором рассказчик говорит «я», — это еще не основание, чтобы спутать вымысел с повествованием. И, конечно же, еще в меньшей степени с тем или иным отрывком рассказанного, будь он даже весьма пространным и очевидным. В этом кроется некая проблема кадрирования, ограждения и установления границ, и при анализе следует весьма скрупулезно к ней подходить, если, разумеется, преследуется цель признания результатов вымысла. Лакан исключает, не обмолвившись об этом ни словом, текстовый вымысел, внутри которого он выделяет так называемое общее повествование. Операция тем более легкоосуществимая, настолько простая, что за рамки повествования не выходит ни одно слово из вымысла под заглавием Украденное Письмо . Но в этом-то и заключается вымысел. Вокруг повествования существует некая невидимая рамка, но структурно она непоколебима. С чего же она берет свое начало? с первой буквы названия? с эпиграфа Сенеки? со слов «Будучи в Париже в 18…»? Это еще более сложно, и мы еще вернемся к этому, и этой сложности уже достаточно, чтобы отметить все то, чего недопонимают в структуре текста, игнорируя эту рамку. Внутри этой рамки, нейтрализованной или натурализованной, Лакан берет повествование без каких-либо границ и производит очередное извлечение, бросая рамку на произвол судьбы. В повествовании он выделяет два диалога, которые и образуют рассказываемую историю, то есть содержание некой постановки, внутренний смысл рассказа, нечто заключенное в рамку, что требует полного внимания, мобилизует все психоаналитические схемы, в данном случае Эди-повы, и приковывает к своему центру все усилия по расшифровке. Но чего здесь не хватает, так это постановки проблемы рамки, подписи и Парерго-нова подхода. В отсутствие этого становится возможной перестраивание сцены значимого в обозначаемое (процесс, всегда неизбежный в логике знака), процесс написания в написанное, текста в речь, говоря точнее, в «интерсубъективный» диалог (и ничего случайного в том, что на Семинаре комментируются только две части Письма , в которых содержится диалог).
Читать дальше