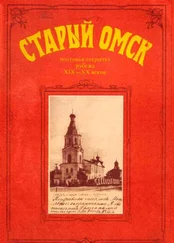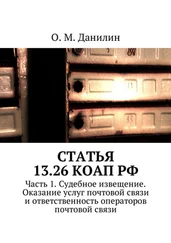То, что анализирует Лакан, раскладывая на составные элементы первоисточник и назначение, раскрывая это во всей истинности, — это история .
Слово история встречается по крайней мере четыре раза, начиная со второй страницы. То, что служит примером — это «история»:
а) «Вот почему мы решили продемонстрировать сегодня вам истину, с которой слетает покров от прикосновения Фрейдовой мысли, которую мы постигаем, в отношении того, что именно символический ряд является для сюжета стержневым, что наглядно иллюстрируется одной историей, где основная линия сюжета вырисовывается при отслеживании значимого».
б) «Заметим, что именно эта истина делает возможным само существование вымысла. Следовательно, притча является настолько же пригодной для освещения, как и любая другая история …»
в) «Вот почему, не вдаваясь в поиски, мы взяли наш пример в самой истории , куда включена диалектика, касающаяся игры в чет и нечет, которую не так давно мы использовали не без выгоды».
г) «Без сомнения, эта история по воле случая оказалась благоприятной для того, чтобы дать толчок целой серии исследований, основой которым она и послужила» (стр. 12, я подчеркиваю).
Эта история — история письма, кражи и перемещения значимого. Но то, что рассматривается на Семинаре, это исключительно содержание данной истории, то, что именуется историей, в чистом виде пересказом рассказа, внутренней повествовательной стороной повествования. Но только не самим повествованием. Интерес к инстанции значимого вплоть до буквы притягивает к этой инстанции, поскольку она, на первый взгляд, в точности представляет собой образцовое содержание, смысл, отображение вымысла По, в противовес его манере изложения, его значимому и его повествовательной форме. Таким образом, перемещение значимого проанализировано как обозначаемое, как объект, о котором рассказывалось в новелле.
В какой-то момент можно подумать, что Лакан готовится принять во внимание излагательное повествование, многоплановую структуру разыгрываемой сцены написания, весьма любопытное место, отведенное в ней рассказчику. Но это место — единожды отмеченное мельком, при аналитической расшифровке изымается, нейтрализуется, или, говоря точнее, согласно образу действий, за которым мы собираемся проследить, навязывается рассказчиком результат нейтрализующего исключения («повествование» как «комментарий»), из-за чего весь Семинар как зачарованный погружается в анализ содержания одного текста. Но при этом упускает одну сцену. Когда считает, что их две. («Таких сцен две…», стр. 12), на самом деле их — три. По меньшей мере. И когда он выделяет одну или две «триады», всегда существует дополнительный квадрат, с введением которого усложняется счет.
Каким образом производится такая нейтрализация и каковы ее результаты если не намерения?
Итак, прежде всего, считается, что позиция рассказчика и повествовательная операция способны вместиться в расшифровку «сообщения По». Некоторые основания оставляют надежду на это, в тот момент, когда представлена сама «сказка»: «Как вы знаете, речь идет о сказке, которую Бодлер перевел под названием: Украденное Письмо . На первый взгляд, здесь угадывается драма, исходя из пересказа, который сделан на ее основе и условий этого пересказа» ( ibid ). «Драма» — это пересказанное действие, история (рассказанная), которая как раз отображает собственно предмет Семинара. Что касается пересказа, то в тот момент, когда о нем упоминается, он тут же ужимается до некого «комментария», который «дублирует» драму, выдвигая на сцену и выставляя на обозрение, без каких-либо хитроумных манипуляций, некий воздушный элемент декора, общую прозрачность. Далее будет рассматриваться вопрос об «общем рассказчике». «Действительно, повествование дублирует драму комментария, без которого бы не было никакой возможной постановки. Скажем так, что, собственно говоря, действие остается как бы невидимым для зала, — в дополнение к тому, что диалог, преднамеренно и следуя самому замыслу драмы, будто бы лишается всякого смысла, который можно было донести до слушателя, — иначе говоря, ничто в этой драме не поддалось бы ни слуховому, ни зрительному восприятию, если бы не строго дозированное, направляемое под определенным углом освещение, если можно так выразиться, придаваемое повествованием каждой сцене с точки зрения, которую имел, играя эту сцену, один из актеров.
Читать дальше