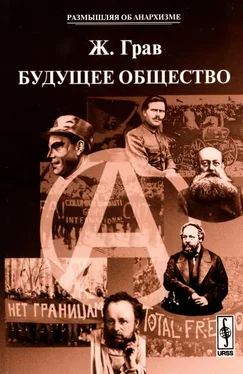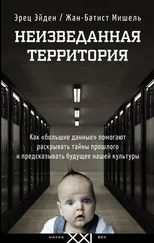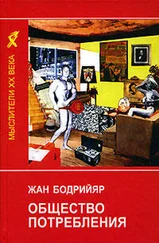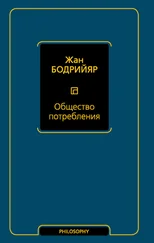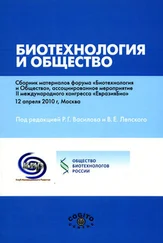Экономисты и прочие, так называемые, эволюционисты отлично понимают, где слабый пункт их аргументации, и поэтому пытаются об'яснить борьбу несколько иначе.
„Борьба — говорят они — не всегда ведется при помощи физической силы; между особями одного вида может вестись борьба, без того, чтобы соперники шли грудь грудью друг против друга”. Между прочим, для примера они указывают на диких лошадей в Тибете, голодающих в зимнее время, когда снега покрывают их пастбища. Из них те, которые послабее, будучи не в силах пробивать ледяную кору, препятствующую доступу к корму, погибают от голода, более же сильные выживают и плодятся.
Остановимся на одном этом примере, ибо остальные однородны с ним. Гг-м экономистам мы возразим следующее: Ваш пример доказывает только то, что одни особи гибнут при тех же условиях, при которых другие выживают: но это не есть доказательство, что оставшиеся в живых выиграли оттого, что те погибли: кроме того, гибель в данном случае произошла от естественных атмосферических явлений, а не как следствие борьбы за существование, и если бы в этом случае была больше развита взаимопомощь, то, по всей вероятности, в живых осталось бы гораздо более значительное количество.
Точно также экономисты говорят, что если бы все зародыши рождались на свет, развивались и достигали зрелого возраста, то, принимая во внимание плодовитость некоторых видов, виды эти в очень непродолжительном времени покрыли бы собою всю земную поверхность, в ущерб остальным видам, и особи одного вида были бы вынуждены поедать друг друга. „Таким образом жизнь одних особей обусловливается гибелью других. И здесь побеждают те, кто сильнее и даровитее”.
Мы согласны с тем, что действительно одни виды живут за счет других видов, и что множество особей гибнет еще в зародышах, это факты, которых никогда никто не оспаривал; мы желали бы только выяснить следующее: 1) имеет ли один человек, раз он родился на свет, право жить и развиваться в тех же условиях, как другой? 2) полезно ли для людей воевать между собою ради взаимного порабощения и эксплуатации? и 3) возможно ли полное счастье одного человека, пока рядом с ним другие люди страдают и терпят лишения?
Полагаем, что ответ готов у всякого, кто только не преклоняется перед властью и богатством: поэтому не будем здесь останавливаться на этих вопросах, тем более, что к ним вернемся в дальнейших главах этой книги.
Точно также неоспоримым фактом является и то, что человеческие общества эволюционировали в смысле развития до крайних пределов индивидуальной конкурренции, и что соединяясь в общества, люди продолжали враждовать между собою; но если изучить причины этого явления, то увидим, вопреки уверениям пристрастных ученых, что эволюция в вышеуказанном направлении вовсе не — неизбежный закон, и что она могла бы совершиться иначе; что во всяком случае, как для отдельного человека, так и для всего человеческого рода желательно, чтобы в настоящее время она проходила иначе.
Если бы та тесная солидарность, какая наблюдается у некоторых видов растений, у некоторых животных и насекомых, как то муравьев, пчел, ос и т. д., а также у некоторых некультурных народов, в свое время одержала верх в борьбе инстинктов в человеке, то эволюция приняла бы совершенно иное направление и человеческие общества были бы совершенно иными. Следовательно говорить, что „борьба за существование” есть неизбежный закон — является абсурдом.
Человек, выйдя из состояния животного нагим и безоружным, окруженный со всех сторон сильно вооруженными врагами, должен был нести огромные труды ради того, чтобы отстоять свое существование; он должен был напрягать свой мозг на придумывание всевозможных ухищрений и изворотов, пока наконец, его интеллект не развился настолько, что заменил собою мускульную силу, в которой ему отказала природа: человек начал выделывать наступательное и оборонительное оружие.
Жизнь первобытного человека, полная лишений и трудов, беспрерывная борьба его с природой и другими видами, лучше, чем он, вооруженным, у которых он вынужден был оспаривать корм и права на существование, способствовали тому, что в нем накопилась некоторая доза наследственных инстинктов воинственности и властолюбия. Этим об'ясняется, почему при первых же опытах солидаризации сил и интересов, несмотря на то, что люди понимали полезность ассоциаций, тем не менее те из них, которые были сильнее и хитрее, воспользовались ассоциациями, чтобы господствовать над другими и пристроиться паразитами на новообразовавшемся организме: обществе.
Читать дальше