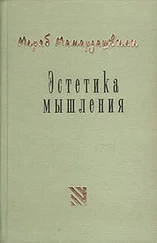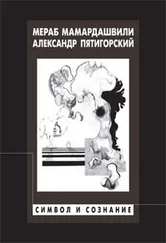Посредством изоляции «связей идей» как связей отдельных и готовых элементов проблему нельзя решить еще и потому, что каждый из этих элементов — «отдельная идея» — фиксирован в познании, во-первых, и безотносительно к процессу выработки данного знания, во-вторых, другими средствами отражения — более простыми формами мышления или даже чувственностью, например. Поэтому эмпирический сенсуализм XVII–XVIII в. мог сводить выработку логического знания к чувственным образам и их ассоциациям.
Без вычленения активной деятельности мышления как таковой и фиксирования ее в особых понятиях проблема приобретает в эту эпоху антиномический характер: «знание возникает из воздействия предмета» (эмпиризм) — «знание не может возникать из предмета, но коренится в той или иной форме в мышлении как таковом» (рационализм). И ничего нельзя сделать для решения антиномии до тех пор, пока учение о методе и учение об общих законах предметов (онтология) лежат вне теории познания, а деятельность мышления понимается лишь как эмпирические правила поведения индивида (т. е. психологически).
Действительно, эмпиризм выделял зависимость знания от наличия его объекта в чувственности (т. е. постоянную опытную предметность знания), но так трактовал эту зависимость (и саму чувственность), что не мог объяснить существующую наряду с ней зависимость свойств знания от его связей с другими знаниями и с системой мышления и просто игнорировал соответствующие факты. Что касается рационализма, то он вообще отрицал зависимость характера знания от наличия объекта в чувственном опыте, исходя как раз из этих фактов (т. е. из структурности знания). То, что по одному и тому же вопросу с необходимостью получались взаимоисключающие друг друга результаты, одинаково обоснованные и в то же время неустранимо различные на данном уровне, говорит о том, что в том и в другом случае в предмете изучения — в мышлении — не выделялось и не учитывалось какое-то скрытое обстоятельство, какая-то сторона или связь предмета, не была произведена какая-то абстракция, которая и позволила бы решить антиномию в ходе дальнейшего построения логической теории. Но сама же антиномия и ставит острейшим образом проблему нового расчленения предмета, толкает к изменению общего взгляда на предмет изучения.
4. Анализ мышления в категориях «формы» и «содержания»
Рассматривая, как исторически осуществлялись различные подходы к анализу познания, мы до сих пор все время имели дело с попыткой решить проблему происхождения особых образований мысли путем прослеживания непосредственного воздействия объекта на пассивное индивидуальное сознание субъекта. Отношение объекта и знания понимается здесь как механическая причинная связь двух различных, изолированно взятых явлений — безразличного объекта и аффинируемого им сознания. Действия первого порождают явления второго как определенные состояния человека. Категория причинности должна быть, как предполагается, достаточным объяснением их связи. В то же время проявления процесса познания в индивидуальном сознании наблюдаются в виде целой совокупности знаний и определенных отношений между ними, обладающих своими специфическими свойствами, не сводимыми к природе и действию внешнего источника самого по себе, как он дан чувственно. И наличие всего этого в индивидуальном сознании, изолированном от активной деятельности мышления и содержания истории познания, неизбежно представляется чем-то загадочным. Антиномичность решения проблемы механизма возникновения знания сохраняется до тех пор, пока познающий субъект берется как изолированный индивид (т. е. как своего рода «гносеологический робинзон») и наличное у него знание сопоставляется лишь с чувственно- эмпирическим объектом и с воздействием последнего на пассивный экран человеческой души, — до тех пор, пока объективный источник знаний не абстрагируется в связи с общественно-деятельными формами активности человека в процессе познания [17] Действия мыслящего субъекта здесь в общем-то не отрицаются, но понимаются психологически, как акт душевного сосредоточения, умозрения, внимательности (Гельвеций), т. е. фактически не учитываются с логической точки зрения. Деятельность представляется как наблюдение того, что происходит в сознании под воздействием объекта. Это — «ассоциация идей». В этом понятии, на очень долгое время определившем развитие психологии и психологизированной теории познания, учитывалось не реальное, предметное поведение субъекта, а лишь манипуляторская его деятельность внутри сознания.
. А пока этого не произошло, все факты, обнаруженные в ходе наблюдения за различными проявлениями данной активности, просто- напросто разрушают теорию как таковую, если она опирается на наличные философские понятия.
Читать дальше