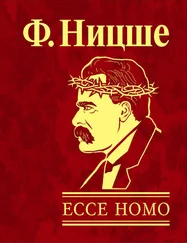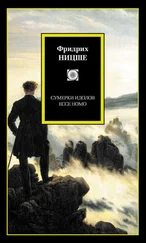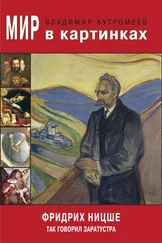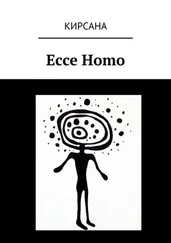Весёлая наука
(«la gaya scienza»)
«Утренняя заря» — утверждающая книга, глубокая, но светлая и добрая. То же, но ещё в большей степени, относится и к gaya scienza: почти в каждом её предложении нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность за самый чудесный месяц январь, который я пережил — вся книга есть его подарок, — в достаточной степени объясняют, выйдя из какой глубины, стала здесь весёлой «наука»:
Ты, что огненною пикой
Лёд души моей разбил,
И к морям надежд великих
Бурный путь ей проложил:
И душа, светла и в здравье,
И вольна среди обуз,
Чудеса твои прославит,
Дивный Януариус! — [38] {78}
Видящий, как заблистала в заключении четвёртой книги алмазная красота первых слов Заратустры, {79} — может ли он сомневаться в том, что именно называется здесь «великими надеждами»? — Или когда он читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые на все времена отливается в формулы судьба? Песни принца Фогельфрая , в лучшей своей части написанные в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том провансальском понятии «gaya scienza», о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца , которым та чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение «К мистралю» {80} , лихая танцевальная песнь, где, с позволения! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм.
Так говорил Заратустра
Книга для всех и ни для кого
1
Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, мысль о вечном возвращении , эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, — относится к августу 1881 года: она набросана на листе, подписанном: «6000 футов по ту сторону человека и времени». Я шёл в этот день поверху лесом вдоль озера Сильваплана; у могучего, пирамидально нагромождённого блока камней, недалеко от Сурляя, я остановился. Там-то и пришла мне эта мысль. — Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу как предзнаменование внезапную и по сути решающую перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру позволительно причислить к музыке — несомненно, то, что я возродился для искусства слышать , было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте близ Виченцы, где я провёл весну 1881 года, я вместе с моим maëstro и другом Петером Гастом, ещё одним «возродившимся», понял, что мимо нас пролетел феникс Музыка, в оперении более лёгком и светоносном, чем кому-либо доводилось видеть. Когда же я, наоборот, отсчитываю от этого дня вперёд, до внезапно и в самых невероятных обстоятельствах наступившего разрешения от бремени в феврале 1883 года — заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в Предисловии , была закончена как раз в тот священный час, когда в Венеции умер Рихард Вагнер, — то получается, что беременность длилась восемнадцать месяцев. Это число, именно восемнадцать, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слониха. {81} — В этот промежуток укладывается «gaya scienza», несущая в себе сотню примет близости чего-то несравненного; наконец она даёт даже самое начало «Заратустры», а в предпоследнем отрывке четвёртой книги — основную мысль Заратустры. {82} — В этот же промежуток укладывается и тот Гимн к жизни (для смешанного хора и оркестра), партитура которого два году тому назад вышла у Э. В. Фрицша в Лейпциге: не такой уж, быть может, малозначащий симптом для состояния этого года, когда мне был в высшей степени присущ утверждающий пафос par excellence, названный мною трагическим пафосом. Однажды этот гимн исполнят в память обо мне. — Текст, стоит подчеркнуть, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен, — фройляйн Лу фон Саломе. Кто сумеет воспринять смысл последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочёл его и восхитился им: в них есть величие. Боль не служит доводом против жизни: «И если счастья ты мне больше дать не можешь, что ж! дай мне боль ...» Быть может, в этом месте есть величие и в моей музыке. (Последняя нота гобоя {83} — до диез, а не до. Опечатка.) — Следовавшую затем зиму я прожил в той очаровательно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врезается между Кьявари и мысом Портофино. Моё здоровье было не из лучших; зима выдалась холодная и чересчур дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто не давал спать, представляла почти во всём противоположность желаемого. Вопреки этому и почти в доказательство моего утверждения, что всё выдающееся возникает «вопреки», именно в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой «Заратустра». — В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной дороге к Зоальи, мимо сосен, глядя на бескрайнюю панораму моря; во второй половине дня, всякий раз, как позволяло моё здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Портофино. Эти места и этот ландшафт сделались ещё ближе моему сердцу благодаря той любви, которую испытывал к ним незабвенный германский кайзер Фридрих III; {84} случайно я снова очутился у этих берегов осенью 1886 года, когда он в последний раз посещал этот маленький забытый мир счастья. — На обеих этих дорогах пришёл мне в голову весь первый «Заратустра», и прежде всего сам Заратустра как тип: точнее, он снизошёл на меня ...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](/books/77555/anatolij-livri-ecce-homo-rasskazy-thumb.webp)