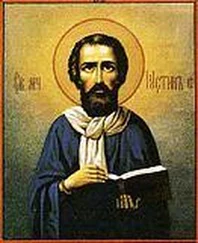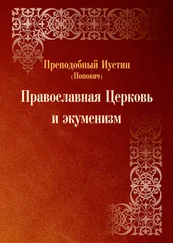В этой необычной апологетике и в этом странном обосновании неприятия Христа так много мыслей самого Ивана, что человек вопрошает в сомнении: где кончается кошмарный посетитель и начинается Иван, что тут от посетителя, а что от Ивана, может ли быть проведена ясная и четкая граница между одним и другим? В одном не приходится сомневаться: все, что говорит кошмарный посетитель, может быть близко только тому, в ком Иванова философия неприятия Христа находит отклик, в том, кто осмысливает ее самосознанием Ивана, в том, кто эту философию анализировал в развитии от начала до конца, и не только осмысливал и анализировал, но сам активно участвовал в создании этой философии.
"Здравый смысл", а это значит здравый ум, евклидов ум, и есть та несчастная особенность, которая не дает Ивану и его кошмарному посетителю принять Христа, поверить в Него как в Бога и Логос мира. Но Ивана в особенности беспокоит и причиняет ему боль то, что кошмарный посетитель бессовестно и дерзко влезает в самые сокровенные уголки его души. Из-за этого он с грустью, сердито и беспомощно укоряет своего посетителя: "Все, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как падаль, — ты же мне подносишь, как какую-то новость" [223] Там же, с.768.
.
По сути тут мы видим покаянную исповедь Ивана: свое неприятие Христа он называет глупостью, "отброшенной им как падаль". Разумеется, он делает это опосредованно, но это нисколько не умаляет самого характера этого факта. Иван всем своим существом и некоей внутренней прозорливостью почувствовал всю катастрофичность и убийственность неприятия Христа для человеческой природы. И когда диавол ему говорит, что в своей апологетике неприятия Христа он имеет в виду писателя поэмы под названием "Великий инквизитор", то Иван, весь красный от стыда, кричит ему: "Я тебе запрещаю говорить о "Великом инквизиторе"… Молчи, или я убью тебя!" [224] Там же, с.768.
Не обращая внимания на угрозы Ивана, кошмарный гость смело и подробно обосновывает Ивану его же план уничтожения в человечестве идеи о Боге, разложения существующей морали, смертности человека и его души, перевоплощения человека в человекобога, новой морали, основанной на принципе "все дозволено". Все это гость говорит, воодушевляясь своим красноречием, все более и более возвышая голос, с насмешкой глядя на Ивана. И Иван, не выдержав, берет стакан с чаем и запускает в оратора. "Ah, mais cest bete enfin! (Ах, это совсем глупо!), — воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, — вспомнил Лютерову чернильницу! Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски!" [225] Там же, с.770.
В это время входит Алеша с вестью, что Смердяков повесился.
"— Я ведь знал, что он повесился, — проговорил как-то задумчиво Иван.
— От кого же?
— Не знаю, от кого. Но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас еще мне говорил…
— Кто — он? [226] Курсив Достоевского.
— спросил Алеше, невольно, оглядевшись кругом.
— Он улизнул… Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты "чистый Херувим". Херувим… Тебя Дмитрий Херувимом зовет. Громовой вопль восторга Серафимов! Что такое Серафим? Может быть, целое созвездие. А может быть, все-то созвездие есть всего только какая-нибудь химическая молекула…
— Брат, сядь, — проговорил Алеша в испуге. — Сядь, ради Бога, на диван. Ты в бреду…
— Нет, нет, нет! — вскричал вдруг Иван. — Это был не сон! Он был, он тут сидел, вот на этом диване. Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан… вот этот… Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны… но они не сны, а наяву: я хожу, говорю и вижу… а сплю. Но он тут сидел, он был вот на этом диване… Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп…
— Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат?
— Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, далее почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он и в баню ходит. Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гадкий…
— А ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? — спросил Алеша.
— Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал: он исчез, как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? А он [227] Курсив Достоевского.
— это я, Алеша, я сам. Все мое низкое, все мое подлое и презренное! Он ужасно глуп, но он этим берет. Он хитер, животно хитер, он знал, чем взбесить меня. Он все дразнил меня, что я в него верю, и тем заставил меня его слушать. Он надул меня, как мальчишку. Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, я бы очень хотел, чтоб он на самом деле был он [228] Курсив Достоевского.
, а не я!" [229] Там же, с. 771–773.
Читать дальше