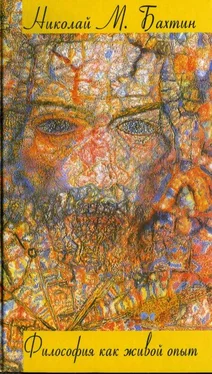И доныне еще философы и эстеты всех толков тупо дожевывают эту пресную жвачку.
Так Эрос искусства, стремительный и жадный, подменен был каким-то скопчески бесстрастным и бесплодным «чистым созерцанием».
5
Если бы все это произошло только в гносеологическом стерилизованном мышлении философов — было бы лишь полбеды. Но оказалось, что само искусство покорно и даже с гордостью приняло свой удел; в нем уже давно назревала тенденция — замкнуться, спрятаться. Так что философы, собственно, лишь благосклонно санкционировали это благоразумное решение. Начинается «чистое искусство», «искусство для искусства».
Никто не имеет права вмешиваться в частные дела искусства. Оно полноправно и независимо. Но зато и ему пришлось торжественно и навсегда отказаться от всяких претензий на власть. За это ему и выдан патент на «чистое эстетическое созерцание» — своего рода удостоверение о благонадежности.
Так все мирно и благополучно устроилось, в согласии с духом девятнадцатого века…
А в 20-м поэтам стало тесно в установленных границах; они исступленно бросаются в мистику, в магию или, что еще проще — в какой-нибудь футуризм, дадаизм, сюрреализм…
Явления этого последнего порядка, конечно, вне искусства и даже — вне культуры (ибо культура начинается там, где есть преодоление, отбор, строгость), но они — совершенно неустранимый коррелят маленькой, засушенной и смирившейся поэзии. И мы, отказавшиеся от основной и исконной традиции поэзии — властвовать и учить — имеем ли мы право противопоставлять этим разнузданным мятежникам лишь пустые и случайные аксессуары традиции? Есть доля правоты в мятеже, когда «хранители традиции» занимаются выискиванием еще не видимых нюансов или мирно изготовляют кисленький лирический студень.
6
Искусство стало для нас освобождающим наркотиком. Мы ищем уйти, спрятаться в искусство, потеряв себя в нем. Теории о «безвольном и бесстрастном эстетическом созерцании» пришлись нам поэтому весьма кстати. Для других, искусство — некий душевный громоотвод: в его прозрачные и отрешенные сферы отводим мы из жизни все опасные и героические энергии нашего духа.
И в том и в другом случае произведение искусства является нам как самоцель, нечто в себе замкнутое, себе довлеющее, вырванное из потока жизни и становления. Но ощущение какой-то неоспоримой реальности, присущей искусству, мешает нам до конца истолковать его как «возвышающий обман» и «освобождающую иллюзию». Приходится постулировать сверхчувственные реальности, потусторонние миры, на которые искусство обязано намекать, чтобы не разрешиться в пустую иллюзию. Понимаемый статически, художественный объект может быть оправдан лишь как знак и символ.
На самом деле, реальность художественного объекта есть не реальность вещи, но реальность силы: он не указует куда-то в пустоты абсолюта, но конкретно, осязательно перестраивает живую и близкую действительность; он не сообщает, но повелевает; это — точка приложения сил, узел энергий, призванных медленно преосуществлять плоть космоса.
Эта поэма, этот сонет — лишь развернутая заклинательная формула, какое-то единство и неповторимо найденное сопряжение смыслов, сочетание слов и ритмов, властное заклясть бытие, реально овладеть им.
Здесь становится понятным основной парадокс искусства: чем строже, чем устойчивей формула, тем многообразней и динамичней воздействие. Отсюда: неправота стремления внести текучесть, движение, многосмысленность в самую формулу (это коренная ложь всякого разнуздания слова, всякого романтизма). Темные и спутанные формулы если и способны призвать к жизни какие-то энергии, то неспособны направить их. Все романтики (в том числе наши символисты) подобны гетевскому ученику волшебника, что сумел вызвать духов, но не сумел повелевать ими: поэтому вызванная сила обернулась силой опасной и разрушительной.
Так обнаруживается правота классической концепции поэзии, поскольку строгость формы есть точность магической формулы, единственно нужной, и из которой должно быть исключено все, кроме неизбежного. Но в лживом неоклассицизме разных толков строгость формы сводится к скудости, а в лучшем случае — к приятной благоустроенности.
7
Человечество, женственное по своей сущности, ждет от искусства мужественного и оплодотворяющего насилия; ему не нужны утонченные игры мечтательных кастратов.
Вернуть поэзии ее действенную, заклинательную и эротическую природу — или ей не быть: такова дилемма, с неизбежностью предстоящая поэту.
Читать дальше