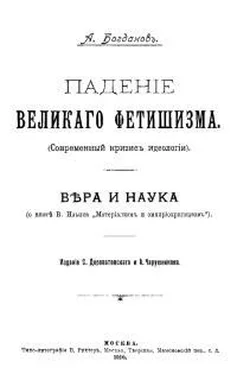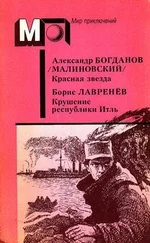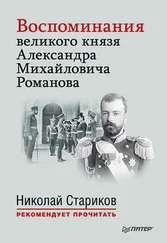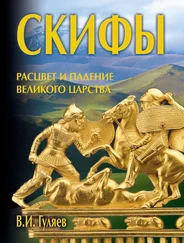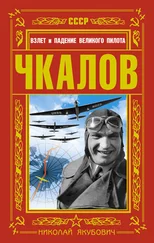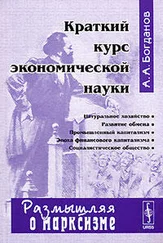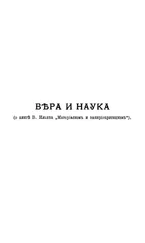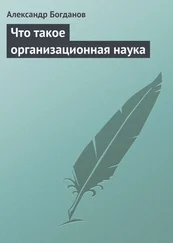Когда слово произносят, тогда сокращения этих мускулов в связи с процессами дыхания порождают определенные членораздельные звуки, доступные восприятию других людей. Когда только «мыслится понятие», выражаемое данным словом, тогда поток иннерваций, идущий от центров мозга к тем же мускулам, гораздо слабее, так что его энергия частью совсем теряется в проводящих путях, и не вызывает действительного сокращения мускулов, частью же доходит до них в недостаточном количестве, и вызывает сокращение настолько слабое, что соответственных звуков не получается. Существуют все переходные ступени между социально воспринимаемой речью и глубоко, в тайниках души протекающей мыслью человека. Очень часто у сильно задумавшегося человека напряженный процесс размышления невольно — и почти бессознательно вырывается в виде слов: человек по обычному выражению «думает вслух». Но и тогда, когда этого не происходит, хороший наблюдатель легко улавливает у другого лица, поглощенного мыслью, легкие движения губ, соответствующие тем, какие бывают при акте речи; а у самого себя, при аналогичных условиях, легко заметить, кроме того, некоторые движения языка, подходящие к отдельным звукам «мыслящихся» слов-понятий. Всем этим иллюстрируется тот факт, что по существу
активность мышления и активность речи — одна и та же, в первом случае только выступающая в сокращенном и уменьшенном виде, во втором случае — в своем полном, органически завершенном виде.
[1] К сожалению, в литературе русских марксистов непонимание разницы между идеологией и психологией, между социальным по самому существу своему мышлением и индивидуальным сознанием еще очень распространено. В произведениях философской школы Бельтова-Ортодокса эти два понятия почти систематически отождествляются, «познание» и «сознание» то и дело замещают друг друга как точные синонимы (даже при цитировании других авторов, различающих эти понятия). Смешение это как нельзя более характерно вообще для новейших индивидуалистических школ в философии, к числу которых принадлежит и школа Бельтова. Еще Спиноза строго отличал «идеи», модусы мышления, от ощущений и представлений, которые он относил к фактам из области «протяжения». Но уже, напр., Беркли употребляет термин «идеи» для обозначения элементов непосредственного опыта безразлично, а самый опыт понимает, как чисто индивидуальный. Последующие индивидуалисты, особенно «критическая» школа, в своих схоластических анализах и умозрениях, естественно, не отличали и не отделяли социального момента «мышления» от индивидуально-психических моментов: индивидуалист и социальное в своей душе воспринимает и понимает, как чисто индивидуальное.
Смутное понимание этого факта наблюдается уже в древней философии, которой оно подсказывалось еще греческими языком, обозначающим «речь» и «мышление» одним и тем же словом — «λογος». Напр., для Платона мышление есть «разговор, который душа ведет с самой собою по поводу различных предметов ее созерцания». Но решительное и ясное установление коренной идеологической связи принадлежит XVIII–XIX веку, эпохи зарождения и развития сравнительной филологии. Гердер и особенно Вильгельм Гумбольдт исследовали эту связь и дали замечательные по своей определенности и глубине ее формулировки.
Гердер характеризовал ее, как тожество. Указывая, напр., на обычную особенность восточных языков, что понятие «познавать» выражается посредством слов, означающих «давать имена», он замечает: это вполне естественно, ибо в глубине души оба эти акта составляют одно. Гаманн красиво формулировал — первичность речи, называя ее «deipara» (богородицей) человеческого разума.
В. фон-Гумбольдт с особенной полнотой и силой, хотя в несколько тяжеловесной философской форме выяснил ту социальность мышления, которая опирается на его происхождение из речи. Его вывод таков: «человек понимает себя только тогда, когда он на опыте убедился в понятности своих слов другим людям»; и следовательно, вообще речь есть «образующий орган человеческой мысли».
Самые крупные из последующих представителей сравнительной филологии — Гейгер, Макс Мюллер, Нуарэ дали огромную научную обосновку той же идее; а параллельно с этим филологическая психология, опираясь на анатомию нервных центров, приходила к ней же на своем специальном пути. [2] Известное положение Сеченова — «мысль есть рефлекс, прерванный на двух третях» — не точно по своей терминологии, так как «мысль» означает здесь у Сеченова всякое представление и ощущение, вообще всякие «внутренние» психические акты. Но и по отношению к «мысли» в точном значении слова, формула, как очевидно из предыдущего, верна, если определить, какие именно рефлексы здесь «прерываются на двух третях». Тогда получается: мысль есть акт речи, задержанный на двух третях. — Последняя, недостающая треть здесь — мускульное сокращение, сопровождаемое звуком речи.
Читать дальше