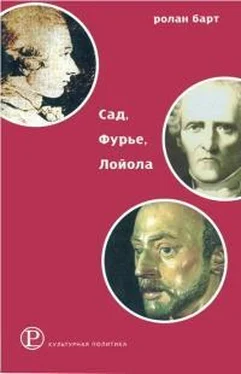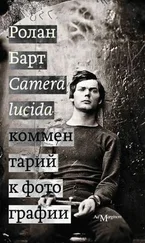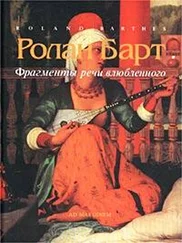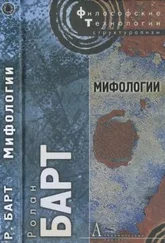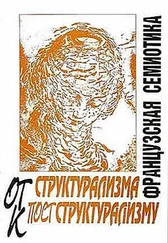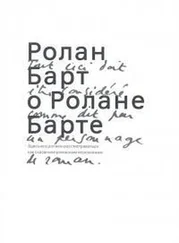Ибо все готово для того, чтобы сам упражняющийся представлял собой этот театр: его тело занимает его. Само протекание этого отшельничества на протяжении трех последних недель следует истории Христа: Христос рождается вместе с упражняющимся, путешествует с ним, трапезничает с ним, вовлекается с ним в Страсти. От упражняющегося непрестанно требуется заниматься подражанием дважды, подражать тому, что он воображает: думать о Христе, «как если бы он видел, как Христос трапезничает со своими апостолами, видел, как он пьет, смотрит, говорит; и стараться подражать ему». Христоморфическая тема всегда сильно занимала Игнатия: обучаясь в Париже и ища работы у какого-нибудь профессора, «он воображал, что его господин — Христос, что одному из своих учеников он даст имя святого Петра, а другому — святого Иоанна… И когда господин даст мне приказ, я подумаю, что его дает мне Христос 24 ». Богоподобное существование (согласно обозначению Рейсбрука) заполняет сцену, анекдотический материал фантазма; в последнем, как известно, (но определению) должен присутствовать субъект 25 : кто-нибудь актуальный (неважно — Игнатий ли, упражняющийся или читатель) занимает свое место и принимает свою роль в сцене: возникает я: «Воображая пригвожденным к кресту Господа нашего Христа передо мной, просить у него в собеседовании» и т. д.; перед действующими лицами сцены Рождества: «представить меня ничтожным бедняком и мелким недостойным рабом, который смотрит на них, созерцает их и прислуживает им в их нуждах, как если бы я всегда присутствовал там»; «я смиренный рыцарь перед целым двором и его королем 26 »; «я рыбак в цепях, представший перед его судией» и т. д. Это я пользуется всеми аргументами, которыми его снабжает канва евангельского рассказа, чтобы свершить символические движения желания: унижение, ликование, боязнь, излияние чувств и т. д. Его пластичность абсолютна: оно может преображаться, уменьшаться согласно потребностям сравнения («Смотреть, кто я есмь, и становиться все меньше по сравнению а) с людьми, b) с ангелами, с) с Богом»), Дело в том, что, как в грезах под воздействием гашиша, воздействие которых, постепенно вызывающее то уменьшение, то расширение эго описывает Бодлер, — игнатианское я, когда Лойола воображает его фантазматическими способами, не является личностью; с нарративной точки зрения, Игнатий, конечно же, может — то тут, то там — уделить ему место на сцене, но с фантазматической точки зрения, его ситуация расплывчата и «раздергана»; упражняющийся (если предположить, что он является субъектом медитации) не исчезает, но перемещается в вещь подобно тому, как курильщик опиума целиком сосредоточивается в дыму от своей трубки и «курит себя»: теперь он — всего лишь глагол, поддерживающий и оправдывающий сцену. Сомнительно, что знаменитое изречение, которое приписывают Игнатию, написано с таких позиций (на самом деле оно извлечено из Elogium sépulcrale S. Ignatii / «Надгробного похвального слова св. Игнатию»): «Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo, divinum est» (Не быть стесненным из-за величайшего, однако содержаться в малейшем — вот что божественно); между тем, важно напомнить, с какой любовью цитировал эту фразу Гёльдерлин, чтобы увидеть в ней сам девиз расплывчатого присутствия субъекта в образе, им характеризуется одновременно и фантазм, и игнатианское созерцание.
Кажется, будто в начале эпохи модерна, в век Игнатия, один факт начинает видоизменять работу воображения: перестановка в иерархии пяти органов яувств. В Средние века — как говорят нам историки, — наиболее утонченным органом чувств, органом восприятия par excellence, органом, устанавливавшим самый богатый контакт с миром, был слух; зрение же занимало лишь третье место, после осязания. Ничем произошел переворот: основным органом восприятия стал глаз (об этом могло бы свидетельствовать барокко, искусство видимых вещей). Это изменение имеет большое религиозное значение. Первенство слуха, еще весьма ощутимое в XVI в., было гарантировано со стороны теологии: Церковь основывает свою власть на слове, ибо вера есть слушание: auditum verbi Dei, id est fidem 27 ; ухо, только ухо, — говорит Лютер, — есть орган христианина. Стало бить, возникает риск противоречия между современным восприятием, которое осуществляется зрением, и древней верой, зиждившейся на слухе. Игнатий как раз пытается ослабить последнюю: он хочет обосновать образ (или внутреннее «зрение») в ортодоксии, как новую единицу создаваемого им языка. Тем не менее существуют разновидности религиозного сопротивления образу (помимо слуховой маркированности веры, что резюмируется, поддерживается и вновь утверждается Реформацией). Одни из них — аскетического происхождения; зрение, ведущее дела осязания по его доверенности, без труда ассоциируется с вожделением плоти (несмотря на то, что античный миф о соблазне — это миф о Сиренах, т. е. об искушении мелодией), и аскет не доверяет зрению тем более, что он не может без него жить; кроме того, один из предшественников Иоанна Креста положил своему зрительному восприятию предел в пять футов, а смотреть далее он не имел права. Предшествующий языку («До языка, — говорит Бональд, — не было ничего, кроме тел и их образов») образ — как полагают — имеет в себе нечто варварское и, если договаривать до конца, естественное, что делает его подозрительным для всякой дисциплинарной морали. Возможно, в этом недоверии по отношению к образу присутствует предощущение того, что зрение ближе всего к бессознательному и ко всему, что там развертывается, — как замечал Фрейд. В рамках Церкви развивались другие, более амбивалентные типы сопротивления образу — те, что свойственны мистикам. Как правило, образы (а именно — видения, и тем более — «внутреннее зрение») принимаются в мистический опыт лишь на правах подготовки: это упражнения для дебютантов; с точки зрения Иоанна Креста, образы, формы и медитации приличествуют лишь начинающим. Цель же опыта — напротив, в том, чтобы лишить нас образов; она в том, чтобы «подняться с Иисусом на вершину нашего духа, на гору безобразной Наготы» (Рейсбрук). Иоанн Креста замечает, что душа «при действии смутного, любовного, мирного и умиротворенного понятия» (которому удалось лишить себя отчетливых образов) не может без болезненной усталости вернуться к конкретным созерцаниям, в которых мы разговариваем образами и формами; а Тереза Авильская, хотя она и занимает промежуточную в этом отношении позицию между Иоанном Креста и Игнатием де Лойолой, от воображения дистанцируется: «эта способность во мне отличается такой вялостью, что — несмотря на все мои усилия — я никогда не могла ни нарисовать для себя, ни представить себе Святую Человечность Господа Нашего» (представление, которое и Игнатий — как мы видели — непрестанно вызывает, варьирует и эксплуатирует). Известно, что, с мистической точки зрения, бездонная вера темна; она погружена и в беспредельный мрак Господень, она течет (как говорит Рейсбрук) по этому мраку, который представляет собой «лик возвышенного Ничто», тогда как медитации, созерцания, виды и речи, словом — образы, занимают лишь «кору духа».
Читать дальше