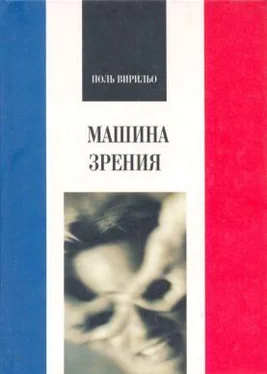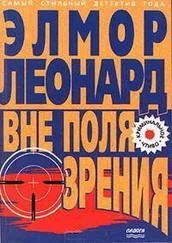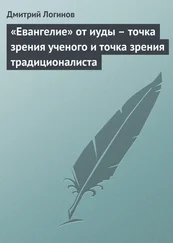Механистическое объяснение постепенно отступит перед математической очевидностью, и в 1900 г. Макс Планк сформулирует квантовую теорию, этот математический факт, никакому объяснению не подвластный. После этого, как указывал сэр Артур Эддингтон, «всякий подлинный закон природы получил серьезные шансы показаться здравомыслящему человеку иррациональным». [39] Вспоминаются эйнштейновские часы и рейки: пружинные или песочные часы, привязанные к движущейся системе, идут в ином по сравнению с неподвижными часами ритме. Рейка-эталон (деревянная, металлическая или веревочная), привязанная к движущейся системе, меняет свою длину в зависимости от скорости системы […]. Зритель, перемещающийся одновременно с системой, никаких изменений не заметит, но зритель, который неподвижен по отношению к ней, констатирует отставание часов и сжатие рейки. Это необыкновенное поведение движущихся часов и реек связано с постоянным явлением света.
Принять эти факты было затруднительно, ибо они шли вразрез не только с накопленными предпосылками научного знания, но в равной степени с наиболее влиятельными философскими и идеологическими системами.
Нетрудно понять, почему эйнштейновская теория оказалась под запретом и почему усилия по ее простому и понятному самой широкой публике изложению были так редки, почему, как писал великий физик в 1948 г., «познания в данной области были открыты узкому кругу посвященных, и в людях уничтожали философский дух, принуждая их к тяжелейшей духовной бедности». Напомнив, «что научной истины не существует», Эйнштейн в самом разгаре эпохи инженеров вернул актуальность тому, что поэты и мистики XV века — например Николай Кузанский — называли docte ignorance [40] Ученое незнание (лат.). — Прим. пер.
то есть допущению незнания, а главное, не-видения, которое обеспечивает любому исследованию его исходный контекст, prime ignorance . [41] Исходное незнание (лат.). — Прим. пер.
В это же самое время мнимая беспристрастность объектива казалась надежной защитой от целого образного арсенала, приобретшего власть повсеместности, всевидение Бога иудео-христианской традиции. Можно было ожидать раскрытия фундаментального строения бытия в его тотальности (Хабермас), этого окончательного прощания с фанатизмом всякого верования и религиозной веры, которая стала бы в таком случае не более чем расплывчатым частным понятием.
Беньямин торжествует: «Фотография подготавливает целительное отчуждение между человеком и его окружением, открывая свободное поле, в котором всякая близость уступает место точному отражению деталей». [42] См. несколько отличающийся русский перевод этого высказывания из «Краткой истории фотографии»: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996. С. 83. — Прим. пер.
Этим свободным полем является реклама, властвующая в пропаганде и маркетинге, технологический гибрид, в пределах которого зритель приобретает наименьшее сопротивление фатическому образу.
Признание того, что сущность невидима человеческому глазу, что все есть иллюзия и что научная теория, как и искусство, есть не что иное, как манипуляция нашими иллюзиями, противоречило политико-философским дискурсам, развивавшимся с потребностью в завоевании как можно большего числа людей, с претензией на непогрешимость и с явной склонностью к идеологическому шарлатанству. Предать огласке формирование ментальных образов, открыть их психофизиологические аспекты — носители их зыбкости и ограниченности — значило бы нарушить государственную тайну, вполне сопоставимую с военной, ибо она окутывает манипуляцию массами, внешне непогрешимую.
Это делает понятнее тот путь, каким множество мыслителей материалистического направления осмотрительно переходят, подобно Лакану, от образа к языку, к языковому бытию, которое почти на полвека занимает интеллектуальную сцену, и защищают его, как укрепленный город, запрещая всякую концептуальную открытость при поддержке фрейдо-марксистских сентенций и семиологических диатриб.
Теперь, когда зло свершилось, немного позабылись беспощадные конфликты вокруг различных форм репрезентации в нацистской Германии, СССР, а также в Великобритании и США.
Тем не менее, чтобы раскрыть его механику, достаточно прочесть воспоминания Энтони Бланта — маленькую, но показательную книгу, недавно вышедшую во Франции благодаря Кристиану Бургуа. Признанный эксперт в области искусства, его преподаватель и просто ценитель, дальний родственник английской королевы, Блант был также одним из самых примечательных тайных агентов XX века, состоявшим на службе у Советов. Политические пристрастия шли у него рука об руку с эволюцией эстетических вкусов, с его представлением об изобразительных системах.
Читать дальше