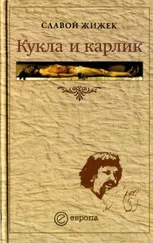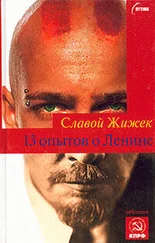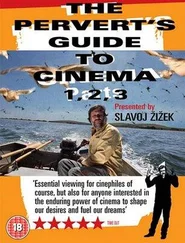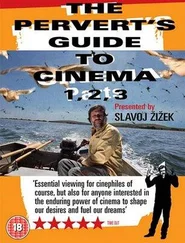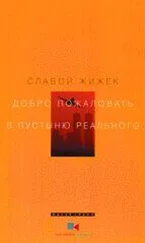Итак, божественное насилие следует понимать как божественное в точном смысле старинной латинской поговорки voxpopuli, vox dei: не извращенно — «мы исполняем это как инструменты Воли Народа, и только», но как героическое принятие на себя бремени одиночества, необходимого для суверенного решения. Это решение (убить, рискнуть, самому погибнуть) принимается в полнейшем одиночестве, не под крылом большого Другого. Будучи внеморальным, оно при этом не «аморально», оно не вручает исполняющему мандат на убийство с сохранением ангельской невинности. Когда те, кто находится вне структурированного социального поля, «слепо» наносят удар, требуя немедленного правосудия/мести и совершая его/ее, это и есть божественное насилие. Вспомните, какая паника охватила Рио-де-Жанейро, когда с десяток лет назад обитатели фавел спустились в богатую часть города и начали грабить и поджигать супермаркеты. Вот это действительно было божественное насилие… Толпы двигались, словно библейская саранча, бич Господень, карающий погрязших в грехах людей. Это божественное насилие обрушивается из ниоткуда, и ему нет конца. О нем Робеспьер говорил, публично требуя казни Людовика XVI:
«Народы судят не как судебные палаты; не приговоры выносят они. Они мечут молнию; они не осуждают королей, они вновь повергают их в небытие; и это правосудие стоит правосудия трибуналов» 23 .
Поэтому, как было ясно Робеспьеру, без «веры» (чисто аксиоматического допущения) в вечную Идею свободы, которой не страшны никакие поражения, революция — не что иное, как «явное преступление, разрушающее другое преступление». Эта вера с пронзительной яркостью выражена в его последней речи в Конвенте 8 термидора 1794 года, накануне ареста и казни:
«Но она существует, уверяю вас, чувствительные и чистые души! Она существует. Эта нежная, властная, непреодолимая страсть, мучение и наслаждение благородных сердец! Глубокое отвращение к тирании, ревностное сочувствие к угнетенным, эта святая любовь к отечеству, эта самая возвышенная и святая любовь к человечеству, без которой великая революция — это явное преступление, разрушающее другое преступление; оно существует, это благородное честолюбивое желание основать на земле первую в мире республику!» 24
Это ведет нас к пониманию того, что божественное насилие принадлежит порядку События: его статус радикально субъективный, это выполняемая субъектом работа любви. Два (печально) знаменитых афоризма Че Гевары замыкают круг:
«Рискуя показаться смешным, хотел бы сказать, что истинным революционером движет великая любовь. Невозможно себе представить настоящего революционера, не испытывающего этого чувства» 25 . «Ненависть есть элемент борьбы; неумолимая ненависть к врагу, которая выталкивает нас за естественные пределы человеческих возможностей, превращает нас в надежные, безжалостные, действующие выборочно, хладнокровные убойные машины. Вот чем должны стать наши воины; без ненависти народ не сможет одержать победу над жестоким врагом» 26 .
Эти противоположные, на первый взгляд, подходы соединены в девизе Че: «Hay que endurecerse sin perder jamâs la ternura» («Ожесточаться нужно, никогда не теряя нежности») 27 . Или же, снова перефразируя Канта и Робеспьера: любовь без жестокости бессильна; жестокость без любви — слепая, недолговечная страсть, теряющая свой железный костяк. За этим кроется парадокс: любовь делается ангельской, взмывает над голой, непрочной и патетической сентиментальностью благодаря своей жестокости, связи с насилием — именно эта связь выталкивает ее за «естественные пределы человеческих возможностей», возносит над ними, превращая в безусловный порыв. Именно потому, что Че Гевара, несомненно, верил в преображающую силу любви, он никогда не стал бы мурлыкать себе под нос: «Love is all you need» [22]— нужно любить с ненавистью. Или, как давно сформулировал Кьеркегор, необходимое следствие («истина») христианского требования любить своих врагов —
«требование возненавидеть любимого вне любви и в любви… До такой высоты — по-человечески, до разновидности безумия — может христианство поднять требование любви, если любовь должна быть исполнением закона. И потому оно учит, что христианин, если потребуется, сможет возненавидеть и отца, и мать, и сестру, и возлюбленную» 28 .
Кьеркегор применяет здесь логику hainamoration (любоненависти), впоследствии описанную Лаканом. Она работает, расщепляя возлюбленного на человека, которого я люблю, и на подлинный предмет-причину моей любви к нему, на то, что в нем больше, чем он сам (у Кьеркегора это Бог). Иногда ненависть — единственное доказательство того, что я тебя действительно люблю. Понятию любви здесь следует придать всю весомость ее толкования апостолом Павлом: область чистого насилия, область вне закона (законной власти), область насилия, которое не кладет основания закону и не поддерживает его, — и есть область любви.
Читать дальше