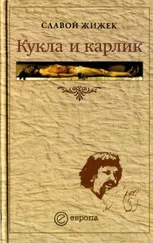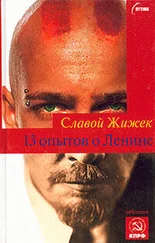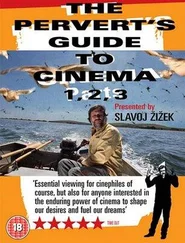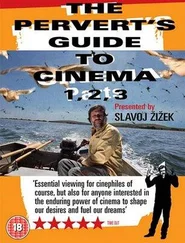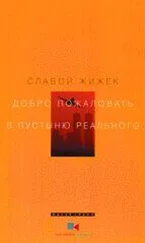всеобщности: «всеобщие права человека — это в действительности права белых мужчин-собственников…»): чтобы быть действенной, правящая идеология должна включать ряд черт в которых эксплуатируемое/подчиненное большинство сможет узнать свои подлинные стремления. Иными словами, всякая гегемонистская всеобщность должна включать по крайней мере два особенных содержания — по-настоящему народное содержание, а также его искажение отношениями господства и эксплуатации. Конечно, фашистская идеология «манипулирует» по-настоящему народным стремлением к подлинному сообществу и социальной солидарности, направленным против жестокой конкуренции и эксплуатации; конечно, она «искажает» выражение этого стремления, чтобы легитимировать сохранение отношений социального господства и эксплуатации. Однако чтобы достичь этого эффекта искажения подлинного стремления, для начала необходимо, чтобы сама идеология уже включала его в себя… Этьен Балибар совершенно оправданно перевернул классическую формулу Маркса: господствующие идеи — это вовсе не идеи тех, кто господствуют… 2 Каким образом христианство стало господствующей идеологией? Включив в себя ряд важных идей и стремлений угнетенных (истина на стороне страдающих и униженных; власть развращает; и т. д. и т. п.) и вновь сформулировав их таким образом, что они стали совместимыми с существующими отношениями господства.
Возникает соблазн обратиться здесь к фрейдовскому различию между скрытой мыслью сновидения и бессознательным желанием, выраженным в сновидении: это не одно и то же — бессознательное желание артикулируется, вписывается посредством самой «переработки», перевода скрытой мысли сновидения в явный текст сновидения. Соответственно, нет ничего «фашистского» («реакционного» и т. д.) в «скрытой мысли сновидения» фашистской идеологии (стремление к подлинному сообществу и социальной солидарности); за совершенно фашистский характер фашистской идеологии отвечает как раз тот способ, которым эта «скрытая мысль сновидения» преобразуется/перерабатывается идеологической «работой сновидения» в явный идеологический текст, который продолжает легитимировать социальные отношения эксплуатации и господства. И разве то же не относится к нашему сегодняшнему правому популизму? Не слишком ли поспешно либеральные критики провозглашают сами ценности популизма по своей сути «фундаменталистскими» или «протофашистскими»?
Таким образом, не-идеология (то, что Фредрик Джеймисон называет утопическим моментом, присутствующим даже в самой чудовищной идеологии) совершенно необходима: в известном смысле идеология — это не что иное, как форма видимости (формального искажения/смещения) не-идеологии. Возвращаясь к наихудшему примеру, не основывался ли нацистский антисемитизм на утопическом стремлении к подлинно общинной жизни, на совершенно оправданном неприятии иррациональности капиталистической эксплуатации? Наша мысль опять-таки заключается в том, что было бы теоретической и политической ошибкой осуждать это стремление как «тоталитарную фантазию», то есть искать в нем «истоки» фашизма (традиционная ошибка либерально-индивидуалистической критики фашизма): «идеологическим» его делает его артикуляция, тот способ, посредством которого это стремление становится легитимацией весьма конкретного представления о том, что такое капиталистическая эксплуатация (результат еврейского влияния, господства финансового капитала над «производственным», то есть стремящимся к гармоничному «партнерству» с рабочими) и как мы должны преодолеть ее (избавившись от евреев и т. д.).
Таким образом, борьба за идеологическо-политическую гегемонию — это всегда борьба за освоение терминов, которые «сами по себе» воспринимаются как «аполитичные», находящиеся за рамками политики. Неудивительно, что самое сильное диссидентское движение в коммунистических странах Восточной Европы носило название «Солидарность»: означающее невозможной полноты общества, если таковое когда-либо существовало. Все обстояло так, как если бы в восьмидесятых годах в Польше то, что Лаклау называет логикой эквивалентности, было доведено до крайности: «коммунисты у власти» воплощают не-общество, упадок и разложение, сверхъестественным образом объединяя против себя всех, включая самих разочарованных «честных коммунистов». Консервативные националисты обвиняли их в предательстве интересов Польши советскому господину; те, кто ориентировались на бизнес, видели в них препятствие для своей неограниченной капиталистической деятельности; для католической церкви коммунисты были аморальными атеистами; для фермеров они олицетворяли насильственную модернизацию, которая лишила их привычного уклада жизни; для художников и интеллектуалов коммунизм был синонимом репрессивной и бестолковой цензуры: рабочие считали себя не только эксплуатируемыми партийной бюрократией, но и в еще большей степени они были оскорблены заявлениями о том, что все это делается от их имени ради них же самих; наконец, старые разочарованные левые считали режим предательством «подлинного социализма». Невозможный политический альянс между всеми этими различными и потенциально антагонистическими точками зрения был возможен лишь под флагом означающего, которое как бы находилось на границе, отделявшей политическое от дополитического, и «Солидарность» была идеальным кандидатом на эту роль: она действенна в политическом отношении, обозначая «простое» и «основополагающее» единство людей, которое должно связать их по ту сторону всех политических различий 3 .
Читать дальше