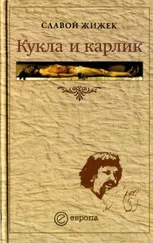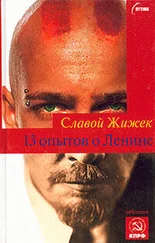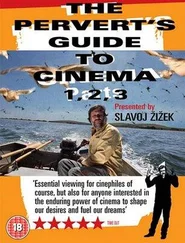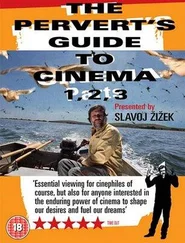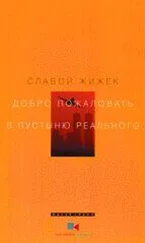Что, если именно врач воображает, что его пациент должен страдать, потому что он как бы автоматически должен воображать, как лишения пациента должны повлиять на кого-то, кто все еще, скажем, обладает трезвой памятью и потому воображает, что было бы, если бы он был ее лишен? Что, если врач сам неверно прочитывает благословенное неведение как невыносимое страдание?
Не удивительно, что формула «сборки боли другого» у Малабу напоминает проблему свидетельства о холокосте: проблема, с которой сталкиваются выжившие в лагерях, заключается не только в том, что свидетельство невозможно, что оно всегда содержит элемент прозопопеи (метафорческого одушевления), что другой должен собрать их боль, поскольку подлинный свидетель всегда мертв и мы можем только говорить от его имени.
Здесь возникает еще одна симметричная проблема: отсутствие подходящей публики или слушателя, способного адекватно воспринять свидетельство. Самым травматическим сном, который Примо Леви видел в Освенциме, был сон о его спасении: он воссоединялся со своей семьей, рассказывал ей о своей жизни в лагере, но члены его семьи постепенно скучали, они начинали зевать и, один за другим, покидать стол, так что в конце Леви оставался один. Боснийская война начала 1990-х свидетельствует о том же: многие девушки, которые пережили грубые изнасилования, позднее кончали с собой, после того, как они воссоединялись со своей общиной и выяснялось, что никто на самом деле не готов слушать их, принимать их свидетельства. Пользуясь лакановской терминологией, здесь отсутствует не только другой человек, внимательный слушатель, а сам «большой Другой», пространство символического вписывания или регистрации моих слов. Леви высказал эту мысль прямо и просто: «То, что мы делаем с евреями, настолько невероятно по своей ужасности, что даже если кто-то выживет в лагерях, ему не поверят те, кто там не был — они просто назовут его лжецом или психически больным!» Хотя Малабу рассматривает случаи, когда нейрональные изменения оказывают травматическое субъективное воздействие, куда больший интерес представляют случаи, когда такие изменения остаются незамеченными. В мае 2002 года прошли сообщения о том, что ученые в Нью-Йоркском университете вживили компьютерный чип, способный передавать сигналы в мозг крысы напрямую, чтобы можно было контролировать крысу (определять направление, в котором она побежит) при помощи пульта управления (точно так же, как можно управлять игрушечной машинкой). Поначалу «воля» живого животного агента, его «стихийные» решения о движениях, которые оно предпримет, определялась внешним пультом.
Конечно, главный философский вопрос здесь заключается в следующем: как несчастная крыса «переживала» свои движения, решения относительно которых на самом деле принимались извне? Продолжала ли она «переживать» их как нечто стихийное (то есть совершенно не сознавая, что всеми ее движениями управляли извне?) или она сознавала, что «что-то здесь не так», что чужая внешняя сила определяет ее движения? Еще важнее применить те же суждения к идентичному эксперименту, проводимому с людьми (который, если оставить в стороне этические вопросы, с технической точки зрения, будет не намного сложнее, чем с крысой). В случае с крысой могут сказать, что к ней неприменима человеческая категория «переживания», а в случае с человеком такой вопрос необходим. Итак, опять, продолжит ли управляемый человек и дальше «переживать» свои движения как нечто спонтанное? Будет ли он оставаться в полном неведении о том, что его движениями управляют, или он осознает, что «что-то здесь не так», что некая внешняя сила управляет его движениями извне? И как именно эта внешняя сила проявляется — как нечто «внутри меня», безудержное внутреннее влечение или просто внешнее принуждение? Если субъект совершенно не сознает, что его стихийное поведение управляется извне, можно ли и дальше делать вид, что это никак не влияет на наши представления о свободной воле?
Составленный Малабу перечень можно дополнить еще одним ужасным травматическим опытом. В «Цене прогресса», одном из заключительных фрагментов «Диалектики Просвещения», Адорно и Хоркхаймер приводят аргументацию французского физиолога XIX века Пьера Флоранса против медицинской анастезии с помощью хлороформа: Флорманс говорит, что можно доказать, что анастетик действует только на нейронную сеть нашей памяти. Короче говоря, хотя нас режут на операционном столе, мы чувствуем ужасную боль, но затем, после пробуждения, мы не помним ее. Нельзя ли прочесть эту сцену как идеальную инсценировку недоступного Другого Места первофантазии, которое никогда никогда не может быть полностью субъективирово, принято субъектом? Эти предчувствия теперь находят свое подтверждение: о «сознании во время анестезии» в одних только Соединенных Штатах сообщают по 100–200 человек в день. Пациент парализован, неспособен говорить и не может сказать, что он в сознании; боли от разрезов может и не быть, но пациент полностью сознает происходящее, слышит и чувствует, как если бы он не мог дышать и одновременно не мог рассказать об этом, потому что ему дали мышечный релаксант. Самый травматический случай имеет место тогда, когда пациенты, которые находятся в полном сознании, потом вспоминают об этом: в результате возникает серьезная травма, порождающей посттравматическое расстройство и ведущей к кошмарам, ночной панике, болезненным воспоминаниям, бессоннице и в некоторых случаях даже к самоубийствам.
Читать дальше