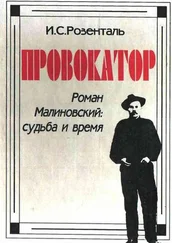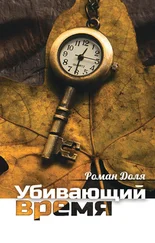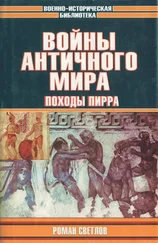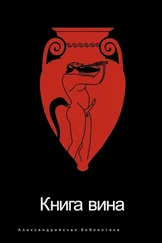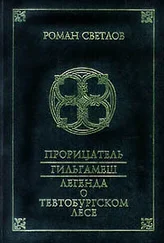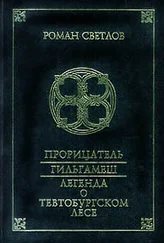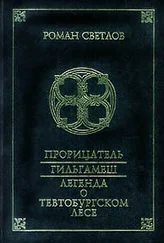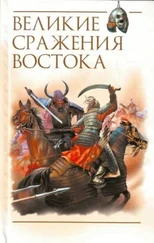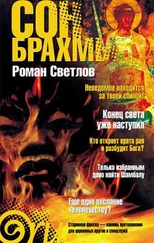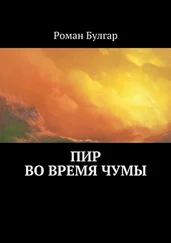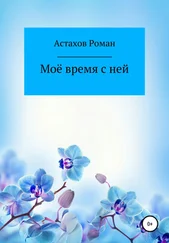Но, как осторожно ни относиться к оценке деятельности Юстиниана в целом, нет сомнений, что с точки зрения сохранения культурных традиций он сыграл откровенно отрицательную роль. После десятилетий идеологической и теоретической цензуры, осуществлявшейся при жизни императора, преемственность культурных связей была прервана. Вплоть до X столетия в Византии творческих личностей, подобных Максиму Исповеднику, можно будет пересчитать по пальцам, а «Мириобиблион» Фотия, добросовестный реферат множества древних рукописей, не свидетельство общей образованности, но, наоборот, указание на исключительность кругозора этого константинопольского патриарха. В культуре начинает господствовать риторика, естественное средство консервации остатков былой полноты. Творчество, подобное исканиям участников «Каппадокийского кружка», оказывается просто невозможным.
Поэтому, сколь бы многое ни совершил Юстиниан в плане утверждения ортодоксального никейского вероисповедания и окончательного установления его юридического и экономического статуса и сколь бы велико ни было значение его «Кодекса» для истории европейского права, восшествие этого человека на престол означало наступление мрачных и печальных времен для культурной жизни империи.
Тема «печальных времен» возникла не случайно, ибо деятельность Юстиниана непосредственно связана с судьбой Дамаския [1] Есть странное созвучие в истории античной философии. Как сообщает Диоген Лаэртский, Фалес первым был назван мудрецом во время архонтства в Афинах Дамасия. Закончилась же античная философия, когда во главе афинских платоников находился Дамаский. Сколь бы различна ни была этимология их имен, в обрамлении ими многовековой истории греческой мысли слышится некое эхо, быть может подчеркивающее «завершенность стиля» самого античного философствования.
последнего главы афинской Академии. Насильственное закрытие величайшей философской школы в Афинах не было результатом естественного оскудения и изживания «впавшей в схоластику» античной философской мысли. Тот факт, что Прокл, чье теоретическое наследие все еще требует осмысления, творил в V столетии и умер всего за 50 лет до закрытия Академии, уже должен вызвать сомнения в стереотипе «мирного успения» платонизма. Знакомство с сочинением Дамаския подтверждает, что наследники Платона вовсе не превратились в поверхностных схоластов. Мы уверены, что даже глубоко образованные историки философии, прочитав трактат «О первых началах», будут удивлены не только богатством заложенных в нем идей, но и легко угадываемыми (а порой вполне близкими к современным) путями их развития — особенно в вопросах о различии наличного бытия, сущего, сущности, в трактовке знания и т. д. Путями, которые, правда, так и не были реализованы. Тем более нельзя считать платонизм тех веков бессмысленной мистикой, лишь внешне прикрытой псевдорационалистическим философствованием [2] Такого рода суждения неудивительны для авторов, работавших во времена «исторического материализма». Но более чем странными онн выглядят у таких образованных людей, как Ф. А. Курганов, написавший в прошлом столетии объемистое исследование: «Отношения между церковной и гражданской властью в Византийской империи» (Казань, 1880), в котором он безапелляционно утверждал: «Вообще же, о закрытой Юстинианом философской школе в Афинах нужно заметить, что она в сущности была не философской школой, а питомником языческого суеверия и магии» (С. 497).
Прекращение исторического существования какого-либо явления далеко не всегда означает отсутствие у него жизненных сил, а интерес к темам богооткровения или чуда еще не свидетельствует о принципиальном иррационализме — тем более, что подобный интерес был неотъемлемой чертой совсем не «отмиравшего» христианского богословия.
Итак, существование неоплатонизма прекратилось не только в силу неких внутренних причин, но и в результате разрушительного воздействия извне. Придя к власти, Юстиниан сразу же стал исповедовать принцип: «Справедливо лишать жизненных благ тех, кто не поклоняется Истинному Богу». В первые два года его правления были изданы указы против еретиков различного толка (савелиан, монтанистов, манихеев, ариан, несториан, монофизитов), против иудеев и т. н. самаритян [3] Особое религиозное направление, где соединились иудейские и, вероятно, раннегностические идеи. Возникло после возвращения иудеев из Вавилонского пленения как результат оппозиции жителей Самарии (по большей части избежавших пленения) вновь складывающейся иерусалимской теократии. В I—II веках имело тенденции к сближению с христианством; испытало влияние проповеди гностиков Симона Мага и Менандра. Практически было уничтожено Юстинианом.
. Имущество их храмов отписывалось в пользу государственной казны. Еретиков увольняли с государственной службы, они не могли заниматься «свободными искусствами», теряли право наследовать, после их смерти собственность, принадлежавшая еретической «фамилии», переходила государству. Манихеев и монтаистов за исповедание их веры попросту казнили [4] Дети становились наследниками лишь в случае приятия ими православия
.
Читать дальше