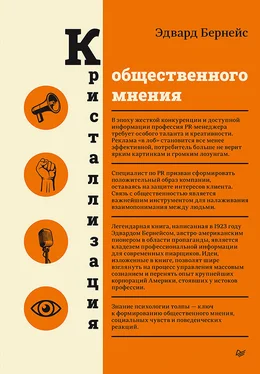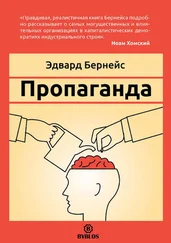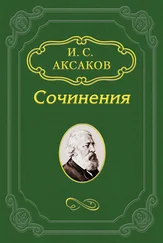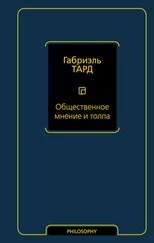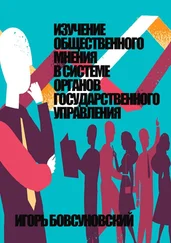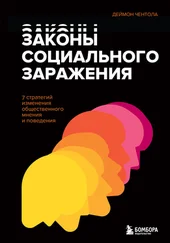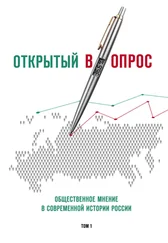Единственное различие между пропагандой и информационной кампанией заключается в том, с какой точки зрения они рассматриваются. Если мы верим во что-то – это информационная кампания. Если мы не верим во что-то – значит, пропаганда. В каждом из этих слов присутствуют свои оттенки значения. Пропаганда – коварная, бесчестная, дезориентирующая подковерная возня. Информационная кампания – нечто ценное, достойное, она помогает что-то понять, чему-то учит. Только в наши дни в этом конфликте наметились некоторые изменения, о чем свидетельствует выдержка из следующей редакционной статьи [132]:
«Истина – понятие относительное, – заявляет Элмер Дэвис, – и это очевидно для любого газетчика, даже далекого от эпистемологии [133]; и, если можно так выразиться, в Вашингтоне истина – понятие еще более относительное, чем где бы то ни было. Временами можно выразить мысль без прикрас: такой-то и такой-то закон был принят в Конгрессе – или не был принят; администрация выступила с заявлением – или не выступила; Президент или одобрил что-то, или наложил вето на какой-то законопроект. Но большинство новостей в Вашингтоне обязательно будут неконкретными, поскольку это зависит от заявлений государственных деятелей, которые просят не указывать их имен и даже не намекать на них. Именно из-за этого все так туманно, и в дымке дурно пахнущих испарений витают новости из Вашингтона. В них содержится не то, что есть, а то, что могло бы таковым быть при определенных обстоятельствах, которые можно трактовать и так и эдак, когда какой-нибудь авторитетный человек утверждает, что дело обстоит каким-то образом (или желает, чтобы общество так думало), хотя на самом деле все иначе».
Большинство вопросов, связанных с так называемым устоявшимся общественным мнением, даже более расплывчаты и неопределенны, гораздо более запутанны по части фактов и их интерпретаций, чем новости из Вашингтона, которые приводит историк New York Times . Подумайте сами, о каких сложных проблемах позволяет себе рассуждать среднестатистический гражданин. Не обладающий информацией обыватель дает себе право критиковать новую медицинскую теорию, не дав себе труда даже разобраться в ней. Он или «за», или «против», о чем свидетельствует история медицины.
Политические, экономические и нравственные суждения, как мы уже убедились, часто скорее отражают психологию толпы и массовое сознание, чем являются результатом хладнокровных умозаключений. Трудно поверить в то, что все может быть иначе. Общественное мнение состоит из мнений миллионов людей, каждый из которых каким-то образом должен устанавливать взаимоотношения и договариваться с другими людьми, и степень этой договоренности зависит от интеллектуальных способностей среднестатистического гражданина общества в целом или конкретной группы людей, частью которой он является. Каждый человек располагает собственным набором фактов. Общество не в состоянии докопаться до универсальной истины. Оно не в силах тщательно обдумывать каждую конкретную проблему или ситуацию, прежде чем принимать какое-то решение. В результате так называемые истины, в которые безоговорочно верит общество, представляют собой продукт компромисса между противоречащими друг другу человеческими стремлениями и многочисленными толкованиями. Истина будет принята и с готовностью поддержана, как только все договорятся между собой, как именно ее воспринимать. В битве идей единственным бесспорным доказательством может быть лишь то, на что указал судья Холмс [134]: сила мысли, которая пробивает себе дорогу в условиях рыночной конкуренции.
Единственный способ, с помощью которого новые идеи могут пробить себе дорогу, – это их признание разными группами людей. Если в них верит лишь один человек, такая правда не станет общепринятой и безусловной. Стремление подавлять меньшинство или инакомыслие – вот с чем борется специалист по связям с общественностью.
Он руководствуется своими собственными стандартами и не пойдет на поводу у клиента, чьи моральные принципы расходятся с его собственными. Хотя от него не требуется нравственная оценка порученного ему дела (точно так же, как от адвоката не требуется оценка защищаемого им клиента), тем не менее он обязательно должен обдумать результаты своей работы с этической точки зрения.
В юриспруденции судья и суд присяжных обеспечивают баланс сил. В глазах общества специалист по связям с общественностью – одновременно и судья, и суд присяжных, поскольку, защищая перед публикой чьи-то интересы, он так или иначе выражает и свою точку зрения. Поэтому специалист по связям с общественностью должен тщательно обдумывать свои действия, стараясь не поддерживать антисоциальные или каким-либо образом вредные для общества движения и идеи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу