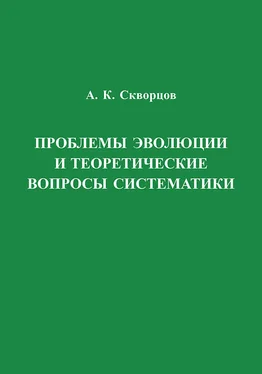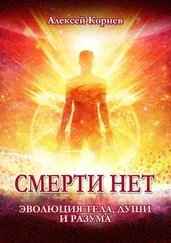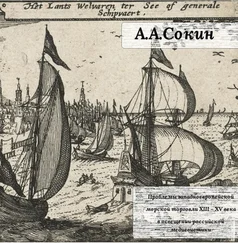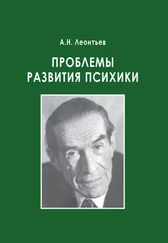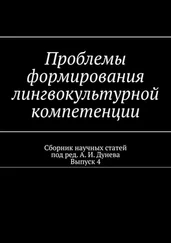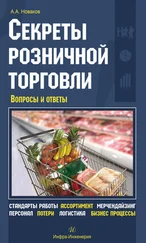1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Тогда же С.И. Коржинский и X. Де Фриз предложили теорию эволюции, объяснявшую появление новых видов только мутациями – внезапными, непредвиденными и резкими изменениями наследственного багажа организмов. Естественному отбору отводилась лишь второстепенная роль. «Мутационизм» и «менделизм», отстаивающие большое постоянство наследственных задатков, стали противопоставляться «устаревшему» дарвинизму. Период такого «генетического антидарвинизма» [14] Завадский К.М. Развитие эволюционной теории после Дарвина. Л., 1983. На западе для обозначения этого периода появилось выражение «затмение дарвинизма» (Bowler P.J. The Eclipse of Darwinism. Baltimore, 1983).
длился почти треть XX в. Ослепленные «математической точностью» экспериментальных генетических данных, даже ведущие биологи не видели, что «мутационизм» как раз и служит тем самым недостававшим дарвиновской теории логическим звеном, которое искал Вейсман. Еще в 1932 г. этого не видел крупнейший генетик-экспериментатор того времени Т. Морган. Увидели же не экспериментаторы, а натуралисты-энтомологи С.С. Четвериков, а затем и Ф.Г. Добжанский [15] Четвериков С.С. // Жури. эксп. биол. Сер. А. 1926. Т.2. Вып.1. С. 3–54; Вып.4. С. 237–240; Dobzhansky Th. Genetics and the Origin о (Species. N. Y., 1937.
. С их работ начинается современная теория эволюции (современный дарвинизм), называемая часто синтетической теорией эволюции.
Резюмируя, можно сказать, что основные этапы развития теории эволюции состояли в обнаружении логической связи и даже логической необходимости там, где, казалось, существовали непреодолимые противоречия. Такова примечательная особенность истории эволюционной теории. Заслуживает внимания и еще одна характерная особенность этой истории. Основоположником теории был биолог широкого профиля, истинный натуралист Ч. Дарвин. И все те, кто в дальнейшем внес наибольший вклад в развитие теории (М. Вагнер, А. Вейсман, С.С. Четвертаков, Ф.Г. Добжанский, И.И. Шмальгаузен), были биологами широкого профиля, натуралистами, систематиками. Той же широтой знаний и интересов отличались орнитолог-натуралист и систематик Э. Майр, зоолог и палеозоолог-систематик Дж. Г. Симпсон, орнитолог-натуралист и генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский, оставившие заметный след в истории дарвинизма. И хотя со временем слово «натуралист» стало немодным, Ф.Г. Добжанский, например, и под конец жизни, после десятилетий работы по генетике популяций, продолжал называть себя натуралистом. В то же время экспериментаторы и лабораторные исследователи, начиная с самого Г. Менделя, при всей значимости полученных ими результатов, не могли найти им должного места в теории эволюции и заметно развить ее. Таким образом, аналитический подход – нацеленность на глубину проникновения и количественную точность суждений в какой-либо одной избранной области биологии – оказался для построения эволюционной теории не столь важным, как подход синтетический – способность к широкому охвату многообразия живых существ и их отношений между собой и к среде обитания.
Дарвинизм и антидарвинизм
Несмотря на все успехи дарвиновской теории, все еще продолжают существовать представления, что эволюция живых организмов – либо вообще имеет недарвиновский характер, либо наряду с дарвиновской существует и недарвиновская эволюция. Как заметил один из виднейших отечественных противников дарвинизма А.А. Любищев, «рать антидарвинистов не так мала, как думают» [16] Любищев А.А. // Совр. лробл. генетики и цитологии. 1971. Вып.6. С. 57–68; также в кн.: Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М, 1982. С.196.
.
Знакомясь с антидарвиновскими представлениями, всегда трудно отделаться от впечатления, что главный их источник – эмоционально-психологический, определенная настроенность ума, благодаря которой некоторые сверхценные для данного автора идеи и представления выводятся им из-под логического контроля. Обратившись же к логике, нетрудно убедиться, что если эволюция живых существ вообще возможна, она необходимо должна быть дарвиновской.
Поставим два простых вопроса. Можно ли говорить о жизнеспособности (в самом широком смысле этого понятия, включая в него и воспроизведение потомства) организмов или целых видов безотносительно к условиям их существования? И может ли быть, чтобы самые разные организмы в самых разных условиях были бы одинаково жизнеспособны? Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с живой природой, на оба вопроса ответит отрицательно. Любой организм может успешно существовать только в определенном, специфическом диапазоне условий. Если же этот организм изменится (т. е. изменятся его структуры и функции), неизбежно должны измениться и его отношения с окружающим миром. (Все это в равной мере относится как к отдельным особям, так и к популяциям и целым видам.) А отсюда уже логически вытекает и адаптивный характер эволюции, и неизбежность естественного отбора.
Читать дальше