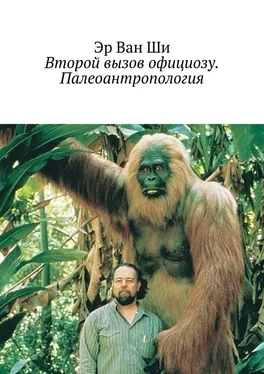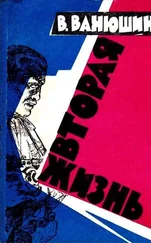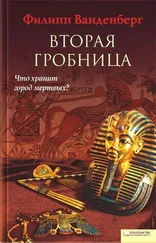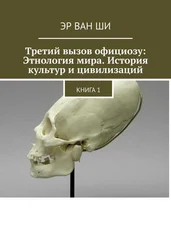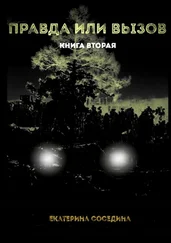Если в гомогенных популяциях коэффициенты внутригрупповой корреляции между одноименными признаками одинаковы по направлению и близки по абсолютной величине (в них находят выражение одинаковые в целом для человечества законы вариаций изменчивости морфологических особенностей), то коэффициенты межгрупповой корреляции тех же признаков часто очень значительно отличаются по своей абсолютной величине от внутригрупповых, а иногда отличаются от них и по направлению.
Смешанное происхождение группы вероятно в том случае, если распад внутригрупповых связей (выражающийся в понижении коэффициента корреляции, а тем более превращении его из положительного в отрицательный) имеет место не в 2, а в неск. признаках (подобный анализ проводил в 1930-х гг. советский антрополог А. И. Ярхо при рассмотрении происхождения многих народов Ср. Азии и Кавказа).
Популяционный подход к расе объясняет тенденции эволюционного развития этносов, поскольку раса представляет собой не индивидуально-типологическое, а групповое понятие, т. е. раса охватывает группу популяций. Изменение же расовых признаков происходит не только в результате внешних экзогенных влияний, например, смешения, но и внутренних популяционных процессов – направленного изменения признаков во времени (включая т. н. «дрейф генов» и т. п.).
Другой вопрос: комплексы тесно связанных между собой морфо-физиологических признаков, выражающих общие тенденции интеграции человеческого организма, лежат в основе выделения конституциональных габитусов и не имеют, как правило, закономерного географ. распространения, варьируют более или менее мозаично. Независимые или слабо зависимые друг от друга в морфо-физиологическом отношении признаки, наоборот, закономерно варьирующие географически, в комплексах образуют расы. В этом их кардинальное различие. А именно раса тесно связана с историей и географией человечества.
Аллопатрический процесс (дифференциация популяций только на географ. основе) – основа видообразования и формирования внутри вида низших таксономических категорий, в отличие от симпатрического (дифференциация популяций на одной и той же территории лишь вследствие приспособления к разным условиям среды).
Существует ряд экологических правил Д. Аллена, К. Бергмана, К. Глогера, А. Томсона и Л. Бакстона. 1-е трактует связь с климатом пропорций тела: в холодном климате укорачиваются конечности и появляется более плотное сложение. 2-е наблюдает зависимость между температурой среды и размерами тела: на севере и на юге, в р-нах сурового климата, размеры тела больше, чем в тропической зоне, 3-е устанавливает интенсивность окраски (пигментации) в зависимости от географической широты местности: чем ближе к тропикам, тем окраска интенсивнее. Последнее, 4-е, выражает зависимость ширины носа от климатических показателей: максимальная ширина характеризует группы человечества, расселённые в тропическом поясе, минимальные величины характерны для арктическо-антарктических зон. С этими правилами можно было бы не согласиться или поспорить: в любом из них есть несоответствия или исключения, однако, мне кажется – дело в сложных путях истор. реализации данной дифференциации. Однако, это как раз доказывает длительность процесса расообразования.
Совершенно очевидно, что любой антропологический тип складывается из популяций, имеющих близкую географию. Расселение неоантропов из одного р-на по Зе6мному шару не могло дать в короткий срок подобной пестроты морфо-физиологической дифференциации без, по меньшей мере, смешения с местными, аборигенными популяциями. Тем более мы не можем отрицать широты определяемой морфологией тенденции развития в конце неандертальского (мустьерского) периода (основанной в т. ч. и на культурных контактах), приведшей к возникновению новой формации – неоантропа.
В самом деле, трудно объяснить появление специфических морфологических черт, исходя из географии только для неоантропов, в то время когда известно, что у предшествовавших им формаций также имелись характерные черты, несмотря на неск. иную географию. Многое, конечно, можно объяснить приспособлением к определённым географ. условиям: ширина носа, курчавость, укороченные конечности, пигментация и многое другое. Но как объяснить уплощение лица монголоидов, прогнатизм и вытянутость черепа негроидов, миниатюрность нек. африканских, северных и океанийских народов? Ведь данные группы живут в тесном соседстве с другими, часто аборигенными, но резко отличающимися от них по ряду морфо-физиологических особенностей. Можно, конечно, чисто гипотетически предполагать, что например, северные лопари (саамы), угроязычные манси и ханты, самодийские селькупы некогда входили в круг «пигмейских» народов экваториального пояса (хотя трое последних относятся к северной, смешанной с с.-европеоидами, ветви монголоидной расы). Однако, во-первых, генетика говорит совсем о другом, а, во-вторых, между афр. койсанами (бушменами, готтентотами, ц.-афр. хадзапи) и пигмеями, не говоря уже о негритоссах Андаманских о-вов, Малакки и Филиппин (аэта, семанги), существует значительное различие, хотя, без сомнения, эти народы – одни из первых аборигенов Африки. Карликовость – генетическая особенность, закреплённая у данных популяций и перешедшая к ним от предков.
Читать дальше