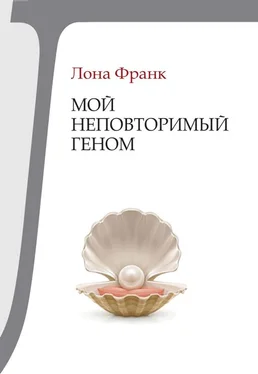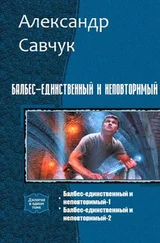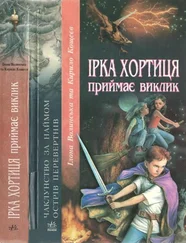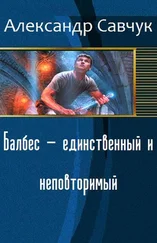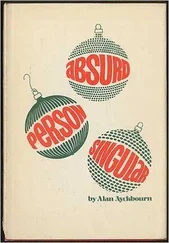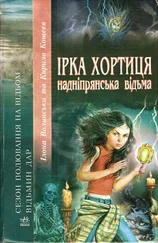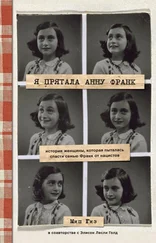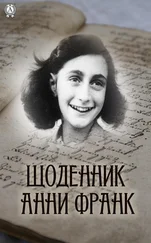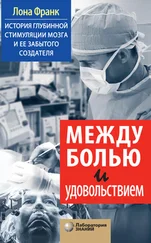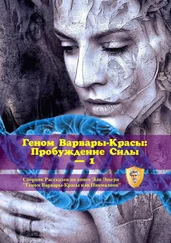Рафтер размышляет о новом «биосоциальном» мышлении, которое объединяло бы социологов и биологов в поисках ответа на вопрос, почему люди в тех или иных обстоятельствах ведут себя так, а не иначе. Биологи должны окончательно продемонстрировать несостоятельность оценочных бихевиористических моделей, оперирующих понятиями «здоров»/«болен», «норма»/«аномалия». Социологам, со своей стороны, нужно строить свои теории с привлечением новейших достижений биологических наук. Только в этом случае можно надеяться на создание программ, в которых решение криминологических проблем будет рассматриваться через призму лечения болезней общества. В конце книги Рафтер пишет: «Мне хотелось бы видеть современную генетику основой развития общества» [123] Ibid., p. 16.
.
По силам ли это генетике?
Возможно. Но для этого совершенно необходимо избавиться от некоторых глубоко укоренившихся мифов. А это означает, что нужно иметь четкое представление о том, что такое гены и чего от них ожидать. Задача не из легких, но первые шаги уже сделаны.
Возьмем, например, психиатрию. Здесь наблюдается поворот от концепции генов «риска» к концепции генетически обусловленной восприимчивости. Рассуждения о детях-«орхидеях», сверхчувствительных, с повышенной реактивностью, — это не просто фигура речи, это признак существенного изменения в образе мыслей, смещения акцента с риска неблагоприятного исхода к возможности развития событий по хорошему сценарию. Никакого генетического детерминизма!
Другой миф — статичность генома. Многие думают, что поскольку наши гены не изменяются (мы не говорим здесь о мутациях), значит, нам суждено всю жизнь оставаться в той биологической «смирительной рубашке», в какой мы родились. Все эти представления мгновенно рухнули с появлением эпигенетики. Теперь мы знаем, что существуют изощренные способы включения и выключения генов, а также изменения их активности под действием внешних факторов. И хотя проблема пластичности генома еще ждет своего часа, ясно, что генетическая информация, неизменная по содержанию, при разных условиях интерпретируется по-разному. И это приводит к самым разным последствиям. Вывод же таков: человека формируют не столько гены как таковые, сколько изменения, которым мы их подвергаем.
С развитием эпигенетики несомненно возрастает интерес к факторам среды — в самом широком смысле. Все указывает на то, что генетика постепенно превращается в интегральную науку, которая занимается изучением бесконечной игры с участием генома, живого организма и окружающей среды. Другими словами, она обнаруживает динамизм и сложность, которые являются фундаментальным свойством биологии.
Потому что будут секвенированы миллионы геномов, и тогда обнаружится, насколько они разнообразны. Мы уже получили представление об этом, картируя и сравнивая геномы представителей различных этнических групп — рас, если хотите. Но впереди — генетическое тестирование менее многочисленных популяций: бушменов и пигмеев, инуитов и австралийских аборигенов и много кого еще. В пределах каждой из них будут выявлены гораздо более мелкие детали и внесены коррективы в прежние представления о том, что нас всех объединяет.
В торжественных речах и официальных документах звучали и звучат, как заклинание, слова о том, что самое интересное в сравнительных генетических исследованиях — выявление сходства между геномами. Геном становится инструментом политики, своего рода объединяющей силой разных культур, народов, социумов. Но так ли уж несомненно, что все мы, несмотря на генетические различия, являемся и будем являться впредь одним видом? Что действительно интересно — так это выяснить, что делает нас столь разными.
По мнению генетика Брюса Лана из Чикагского университета и экономиста Ланни Эбенстейна из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, вполне могут обнаружиться такие генетические различия, о которых мы сейчас и не подозреваем, например, мягко говоря, непривлекательные с точки зрения политкорректности. И мы должны «.быть морально готовы к этим вызовам, т. е. проявлять здравомыслие независимо от того, что станет известно о разнообразии человеческой популяции» [124] Lahn, Bruce T., and Lanny Ebenstein. 2009. Let’s Celebrate Human Genetic Diversity. Nature 461(18): 726-8.
.
Это потребует определенного мужества, поскольку речь идет не о замшелых расовых догмах, а о вполне современных вещах. Вспомним, например, о не столь давних дебатах по поводу интеллектуальных различий между этническими группами. Последний раз «обострение» случилось в 1995 году, когда авторы книги «Колоколообразная кривая» (The Bell Curve) заговорили об «интеллектуальном разрыве» — и тут же стали знаменитыми. Вооруженные результатами многочисленных обследований целого ряда этнических групп, населяющих США, Ричард Херрнстейн и Чарлз Марри пришли к выводу, что, по-видимому, для каждой из них характерно свое распределение уровня интеллекта. Колоколообразная кривая для выходцев из Европы располагалась у них посередине; левее, с более низким интеллектом, находились афроамериканцы, а правее, с более высоким, — выходцы из Азии. Не очень-то симпатично. Шум поднялся не столько по поводу самих кривых, сколько относительно природы их различий: чем они обусловлены — генетикой или средой?
Читать дальше