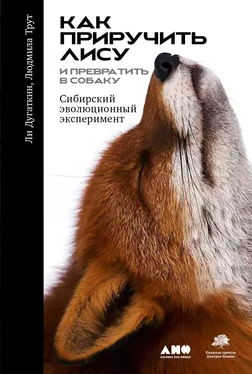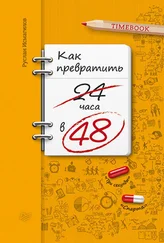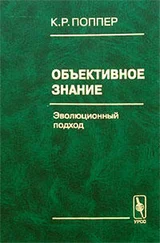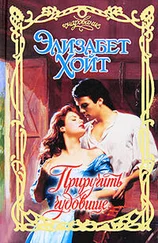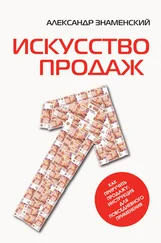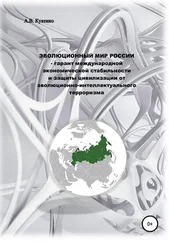Все говорило о том, что эксперимент протекает успешно. Но, хотя Людмиле нравилось проводить время в обществе лис, работа была очень нелегкой. Ее угнетали частые отлучки от дочери, и она порой задумывалась, не переключиться ли на другой научный проект в стенах института.
Однажды на обратном пути из второй зимней поездки в «Лесной» Людмила стояла на маленькой станции Сеятель, терпеливо ожидая автобуса до Академгородка. Помещение станции едва отапливали, хотя мороз был ниже –40 °С. И тут она услышала объявление, что рейс откладывается еще на несколько часов. Ну, хватит с нее! Людмила твердо решила, что завтра же пойдет к Беляеву, откажется от участия в эксперименте и вместе с семьей уедет в Москву. Но уже на следующее утро, после кружки горячего кофе, поняла, что не может так поступить. Она успела влюбиться в свою работу.
Миновал еще один сезон размножения, в январе 1961 г. появилось на свет второе сибирское поколение щенков. Теперь в экспериментальной группе лис было около 100 самок и 30 самцов. Некоторые из лисят второго поколения так доверчиво относились к людям, что позволяли Людмиле и сотрудникам фермы брать себя на руки, совсем как Ласка и Киса из Кохилы. И все же пока это были скорее исключения. Большинство детенышей, вырастая, оказывались лишь немного спокойнее обычных чернобурок и нередко демонстрировали страх или агрессию по отношению к людям. Работая с ними, нельзя было забывать про защитные перчатки.
И все же у Людмилы росла уверенность в том, что эксперимент приносит плоды. Это было ясно не только потому, что в каждом новом поколении число неагрессивных лис становилось больше, но и потому, что менялось поведение сотрудников фермы по отношению к этим ручным зверям. В «Лесном» в помощь Людмиле выделили нескольких работниц. Теперь, принося лисам корм или чистя их клетки, они порой ласкали ручных лис, проводя с ними больше времени, чем обычно. Было видно, что между людьми и животными возникает взаимосвязь. Одна из работниц фермы по имени Фая особенно полюбила ручных лис. Женщина едва сводила концы с концами, но все же каждое утро делилась завтраком со своими любимицами. Ей нравилось трепать их по шерстке и брать на руки, даже когда они вырастали и весили добрых 4,5–9 кг.
Вполне естественно ожидать подобной реакции по отношению к милым маленьким щенкам, но для Людмилы было неожиданностью наблюдать такую сильную привязанность к взрослым лисам. Она тоже не могла устоять и позволяла себе, измеряя своих подопечных, взять их на руки или ласково потрепать. Но слишком увлекаться этим нельзя. Необходимо сохранять позицию объективного исследователя, наблюдающего процессы со стороны, как это делали ее коллеги. С годами Людмила стала очень серьезно к этому относиться. В то же время она понимала, как важна для эксперимента такая привязанность к лисам у совершенно случайного человека, какую проявляла Фая. Беляев полагал, что некогда люди отбирали для разведения наиболее спокойных и доверчивых животных и это был одним из первых этапов в процессе одомашнивания. Здесь, в «Лесном», Фая по сути занималась тем же одомашниванием. Несложно представить себе, как в далеком прошлом волки, предрасположенные к общению с человеком, вызывали похожую реакцию у наших предков.
После возвращения из второй июньской поездки в «Лесной» Людмила вместе с Беляевым приступила к анализу собранных результатов. Материала накопилось очень много. Изменения, выявленные у некоторых экспериментальных животных, поражали. Внимательно осмотрев лис и сделав анализ вагинальных мазков, Людмила точно определяла для каждой самки время начала течки, открывающей короткое, в несколько дней, «окно», когда та была готова к спариванию. Данные показывали, что у некоторых экспериментальных лис это «окно» открывалось зимой чуть раньше, чем у обычных чернобурок. Кроме того, увеличилась плодовитость – в помете ручных лис насчитывалось в среднем чуть больше детенышей, чем у обычных. А ведь связь между одомашниванием и более интенсивным размножением была одной из основ беляевской теории доместикации, согласно которой бессознательный отбор неагрессивных особей стимулировал все остальные изменения приручаемых животных. Поэтому даже относительно слабое изменение специфичного для вида репродуктивного цикла подтверждало идею Дмитрия Беляева. Похоже, что им удалось по-настоящему инициировать процесс одомашнивания, а не просто создать поголовье наполовину прирученных лис.
Читать дальше