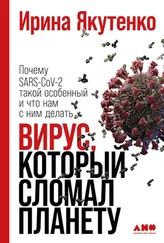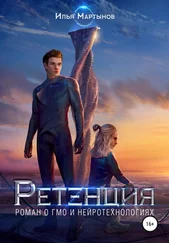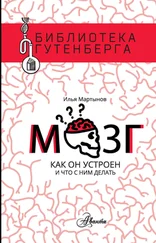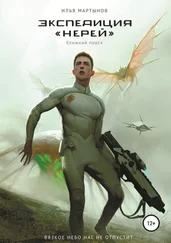Открытия, сделанные в области клеточной нейрофизиологии, в некотором смысле даже на какое-то время завели исследователей в тупик. Казалось, что открытие нейроновдетекторов в зрительной системе (см. часть I), реагирующих на линии определенного наклона, на движения, на целые объекты (лица, жилища), должно было объяснить работу психофизиологических законов, но этого не произошло.
Инженерам хотелось уподобить нейронные импульсы электрическим в процессоре компьютера, сделать нейронные разряды вариантом алфавита. В каком-то смысле Е. Н. Соколов, уже упомянутый в книге ранее, попытался это сделать, раскрыв модель ориентировочной реакции.
Но еще дальше в этом направлении продвинулась в нашей стране Наталья Петровна Бехтерева. Она стала широко использовать термин «нейронные коды». В 1970–80-х годах в ее лаборатории проводили исследования, в которых множество электродов погружали вглубь мозга. Бехтеревой удалось записать целые группы импульсов, связанных в течение определенного времени с физическими особенностями и смыслом воспринимаемых сигналов. По сути, получалось, что какой-то сигнал соответствовал совокупной активности группы клеток. Подобные группы импульсов и назывались нейронными кодами. Возникало ощущение, что так можно составить своего рода словарь нейронных кодов памяти. Но сделать это удалось далеко не сразу.
Метод регистрации мозговой активности с помощью погруженных в нервную ткань электродов был популярен в среде нейрофизиологов 1970–80-х годов. Но были и ученые, которым хотелось получить доступ к психофизиологии мозга без вскрытия черепной коробки. Тогда функциональной МРТ еще не существовало, поэтому оставался только метод регистрации ЭЭГ.
Кстати, электроэнцефалограмма представляет собой отражение активности огромного количества нейронов. Широкое распространение регистрация ЭЭГ получила в 1930-е годы. Впоследствии метод стал особенно популярен у неврологов, потому что позволял достаточно точно сказать: есть ли в работе мозга человека признаки эпилепсии или нет.
Одним из исследователей, который смог обнаружить на ЭЭГ отражение психических процессов, в том числе связанных с восприятием и мышлением, был академик Михаил Николаевич Ливанов. Он подошел к решению этих вопросов еще до Второй мировой войны. Ливанов предположил, что, если двум областям мозга (даже весьма удаленным друг от друга) нужно выполнить работу в рамках одного психического процесса, их нервные клетки должны работать синхронно (на одной частоте). И это было поистине простым до изящества предположением.
У клеток после возбуждения наступает фаза отдыха (рефрактерности), когда их невозможно активировать. Но через некоторое время приходит черед фазы сверхвозбудимости (экзальтации), когда клетки легко включаются в работу. И вот если две группы клеток работают на одной частоте, но с небольшим фазовым сдвигом (задержкой), могут возникать ситуации, когда импульс добегает от одной группы клеток к другой как раз в фазу сверхвозбудимости. И так происходит установление функциональной связи между двумя группами клеток из разных областей мозга. В статье 2007 года академик Алексей Михайлович Иваницкий по этому поводу приводит хорошую аналогию со светофорами, регулирующими движение автотранспорта. Светофоры работают на одной частоте, но существует задержка включения зеленого света, равная времени, которое затрачивают автомобили чтобы доехать от одного перекрестка к другому.
В 1950-х годах Ливанов поставил блестящий эксперимент, в котором, используя искусственный интеллект (это не опечатка!), сумел доказать связность в работе структур в мозге кролика. В этом исследовании компьютер в случайном порядке предъявлял зрительный сигнал и вычислял степень слаженности (коэффициент корреляции) в работе зрительной и двигательной коры мозга животного. Оказалось, что, когда корреляция между ЭЭГ этих двух областей была высокой, кролик двигал лапой. Возбуждение добегало от зрительной коры к моторной и запускало двигательную реакцию. Важно отметить, что в этом эксперименте практически сведена к минимуму роль человеческого фактора. Большую часть эксперимента выполнял компьютер. В истории мировой науки, кстати, это был один из первых экспериментов с применением искусственного интеллекта.
Позднее Ливанов доказал, что таким же образом на ЭЭГ можно обнаружить и отражение процессов мышления. Также ему удалось доказать, что при шизофрении картина связей между областями коры меняется. Благодаря работам Ливанова исследователи получили возможность еще до появления функционального томографа видеть, какие области мозга включаются в слаженную работу при выполнении той или иной деятельности.
Читать дальше
![Илья Мартынов Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] обложка книги](/books/405254/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del-cover.webp)
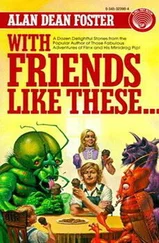
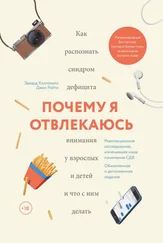
![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/390105/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)
![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/390106/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)
![Илья Мартынов - Ретенция [publisher - SelfPub]](/books/397510/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub-thumb.webp)