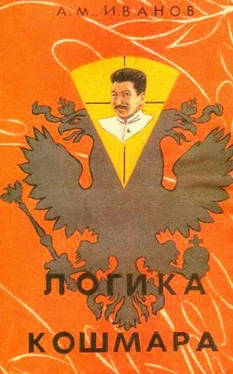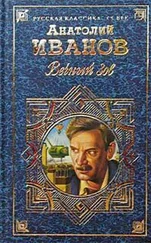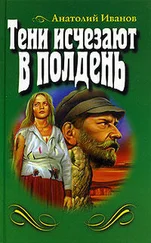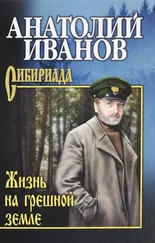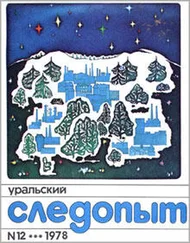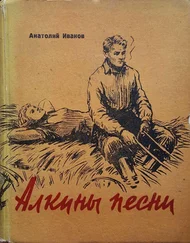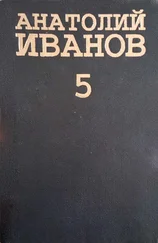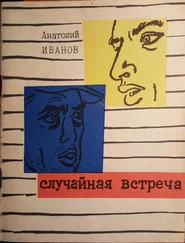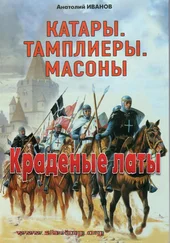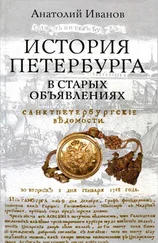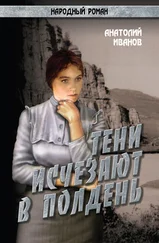Анатолий Иванов - ЛОГИКА КОШМАРА
Здесь есть возможность читать онлайн «Анатолий Иванов - ЛОГИКА КОШМАРА» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ЛОГИКА КОШМАРА
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.5 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ЛОГИКА КОШМАРА: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ЛОГИКА КОШМАРА»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
ЛОГИКА КОШМАРА — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ЛОГИКА КОШМАРА», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Живые свидетельства тех лет лучше помогут нам разобраться, кто какую роль играл, чем измышления американского профессора, рожденные в тиши библиотек бездарной от своего благополучия страны.
КОНЕЦ “ЛЕВОЙ” ОППОЗИЦИИ
Интересные личности появились в 1924 году и среди кандидатов в члены Политбюро. В кои-то веки дослужился до этого ранга Дзержинский. Почему-то от общего внимания ускользает тот факт, что Ленин, охотно пользуясь услугами Дзержинского для грязных дел, и близко не подпускал его к Политбюро, но Троцкий специально подчеркивает это обстоятельство в своей книге о Сталине (т.II, с.197) и рассказывает, как Дзержинский жаловался ему, что Ленин не считает его политической фигурой. Под влиянием этой обиды, утверждает Троцкий, Дзержинский и взял сторону Сталина, с которым они вместе ездили в Вятку в 1919 году. В 1921 году Сталин ввел Дзержинского в свое Оргбюро, хотя Дзержинский, по словам Троцкого, “не был организатором в широком смысле слова”. Однако обида Дзержинского как-то не вяжется с характеристикой, данной Троцким этому деятелю ранее, в 1930 году, в “Моей жизни”, а там говорится (т.II, с.225,226), что Дзержинский и “сам не считал себя политиком”, “Политически Дзержинский всегда нуждался в чьем-нибудь непосредственном руководстве. В течение долгих лет он шел за Розой Люксембург”, Здесь Троцкий совсем уж низводит Дзержинского на роль товарища Копенкина из “Чевенгура” с его зашитым в шапке портретом. Следуя за Розой, как за лидером, Дзержинский знал о ней, похоже, не больше Копенкина, Сама себя Р.Люксембург оценивала не очень высоко и признавалась в минуты откровенности: “Я только по недоразумению верчусь в водовороте мировой истории, в действительности же рождена для того, чтобы пасти гусей” (цит.соч., т.I, с.232).
Что за гусь Дзержинский, Ленин, надо думать, знал лучше других. В этой связи вспоминается одно таинственное место из воспоминаний Горького о Ленине. В них говорится, что отзыв Ленина о Троцком “с нами, а не наш” был повторен по отношению к еще одному человеку, тоже очень крупному, умершему вскоре после Ленина. Фигура умолчания наводит на мысль о том, что эти слова относились к какой-то канонизированной фигуре, назвать которую прямо было и невозможно, и небезопасно. Вскоре после Ленина умерли Ногин (1924), Фрунзе (1925), Красин (1926) и Дзержинский (1926). Больше всего указаний на то, что речь в данном случае шла именно о Дзержинском.
Мать “железного Феликса” была ярой польской националисткой и католичкой и в соответствующем духе воспитала своего сына (см. А.Хацкевич. Солдат великих боев. Минск, 1965, с.7). Дзержинский, таким образом, вырос в атмосфере русофобии, в семье, где испытывали отвращение даже к русскому языку, и этим объясняются не только неправильности выговора шефа ВЧК, но и многое в его поведении в те годы, когда Россия была отдана ему на растерзание.
Отказавшись от своей первоначальной мечты стать ксендзом, Дзержинский “пошел другим путем” в поиска способа, как лучше отомстить ненавистной России, и примкнул к социал-демократической партии Польши и Литвы. В руководстве этой оригинальной партии, надо сказать, не было ни одного поляка и ни одного литовца, – сплошь евреи. Дзержинский целиком поддерживал линию этого руководства (куда входила и его любимая Роза), возмущался интригами ленинцев, взявших в 1912 году курс на создание обособленной большевистской партии, и в 1917 году продолжал, по примеру той же Розы, отрицать право наций на самоопределение.
Мы уже упоминали о том, с какой яростью Дзержинский выступал против Брестского мира. Он кричал тогда, что Ленин предает революцию, как Зиновьев и Каменев в Октябре, только делает это более технично. В свете подобных высказываний понятно и двусмысленное поведение Дзержинского во время левоэсеровского мятежа б июля 1918 года – ведь левые эсеры как раз хотели сорвать ненавистный ему Брестский мир. Официальные советские биографы с придыханием описывали потом “героизм Дзержинского, отважно явившегося в логово врага в поисках убийцы германского посла Мирбаха чекиста Блюмкина. На самом деле никакой отваги не было: напросившись на заведомо безопасный для себя плен, Дзержинский тем самым ловко избавил себя от необходимости принимать какие-то реальные действенные меры против симпатичных ему мятежников. И хочется еще раз обратить внимание на сходство почерка: форосский вариант 1991 года был разыгран по московскому шаблону 1918 года.
Во время профсоюзной дискуссии Дзержинский опять оказывается не на стороне Ленина, а грузинским конфликтом окончательно вгоняет любимого вождя в роб, после чего, руководствуясь полученными в октябре 1918 года в Швейцарии инструкциями, оформляет этот фоб согласно предписанным ритуалам. Что дальше?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ЛОГИКА КОШМАРА»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ЛОГИКА КОШМАРА» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ЛОГИКА КОШМАРА» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.