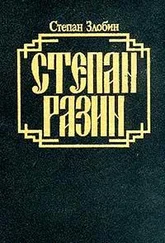— Вишенин диагноз поставил? — спросил Балашов.
— А то кто же! Да нет, с Вишениным можно ладить, только в руках его надо держать! — засмеялся Володя.— Правда, теперь нам будет труднее: ведь я к тебе самого лучшего человека доставил — Трудникова!
— Левоныча?! — обрадовался Иван. — Да что ты! Как я его не приметил? Где он?
— Сам ты в барак отвел. В бане со всеми утром его увидишь. Там все лепилось вокруг него. И нам он помог. Славка Собака хотел в ТБЦ вернуться, прибыл к нам из команды, как будто больные почки. Пимен Левоныч над ним общий суд ночью устроил. Свидетелей, битых Славкой, нашлось четыре человека. Судили по правилам. Допросили его самого, допросили свидетелей: «Убивал?» — «Убивал». — «Калечил?» — «Калечил!» Приговорили — к ногтю его, паразита, да ночью же и повесили над парашей, — говорил Володя, зашивая новые книжечки, полученные из ТБЦ.
— А немцы как же?
— Даже Вишенин поверил, что повесился сам. Говорит: «Эх, Володя, просил он диагноза «туберкулез», а я ему написал «здоров». Я говорю: «Ну и черт с ним! Ведь палач, полицай. Ну и пусть удавился!..»
— Меньше чем месяца через два не увидимся. Пока наберем людей с подходящим диагнозом! — сказал Володя, уже зашив под шинель брошюрки, упрятав два компаса и карпатскую карту в сапог.
Балашов глядел на него, как на брата, которого встретил где-то на фронте, в передышке между боями, как на младшего любимого брата, который мелькнул в дыму и опять уходит со своей частью. Ведь вдруг вздумают обыскать Володьку... Книжечки, компасы, карты...
— Скажу, что нашел, когда ехал еще сюда. Мы там в бомбоубежище были. Скажу, что какой-то проезжий в бомбоубежище сунул... Эх, жалко, не повидал я ребят!.. Приветы передавай. Пимен Левоныча нашего с пацаном Еремкой получше устройте, а переводчика-гада тоже где-нибудь над парашей повесьте. Противный тип, сами увидите, Морковенко фамилия, — говорил на прощание Клыков.
Унтер Вилька зашел за Володей и повел его к поезду. Балашов вышел в мутную сутемь. В облаках летела луна, и где-то возле нее гудел одинокий бессонный летчик.
Рука Володи была сухой и горячей. Они обнялись с Иваном у порога бани. Солдат, конвоир Володи, окликнул его в темноте:
— Вольдемар? Шнеллер!
Пробежал луч прожектора. Лязгнула щеколда калитки и захлопнулась за уходившими...
И только утром, когда повел вновь прибывших в баню, Балашов увидал Трудникова, но Пимен сделал ему неприметный знак, чтобы Иван его не узнавал, и сам скользнул в баню, скрываясь от Вильки, который отлично запомнил его со времени работы Трудникова в карантине. Балашов успел разглядеть однако, что Пимен совсем не тот, каким был: он горбился и прихрамывал, на лбу его был красный широкий шрам. Оберегал и поддерживал Пимена какой-то молоденький паренек...
Среди вновь прибывших Иван угадал и переводчика из Шварцштейна, привезенного Володей, Морковенко, чисто одетого, гладкого, сытого, бодрого человека. Он явно был в затруднении, кому поручить свой бумажник, чтобы не сдавать в дезинфекцию, и критически всматривался в Балашова, в щеголя с повязкою старшего фельдшера на рукаве.
Но тут вошел коротышка Вилька, и переводчик бросился к нему, как к родному. Оказалось, они знакомы по 41-му году: Вилька служил в том лагере, где переводчик был тогда комендантом...
И вот тотчас после завтрака в карантине, нарушая все правила, Вилька вызвал знакомца в комендатуру, а через час, с вещами, по личному приказу лагерного коменданта, Павлик в сопровождении Вильки отвел вновь прибывшего не в карантин, а сразу в ТБЦ-отделение, в барак заболевшего персонала.
Павлик только на ходу, через санитара, предупредил о нем Соколова, не успев сказать ни слова ни Глебову, ни Варакину.
Переводчик занял свободную койку и удовлетворенно осматривался в чистой обстановке барака, когда еще ничего не знавший о прибытии нового больного Варакин вошел с улицы.
— А вот и наш доктор, — приветливо сказал новичку кто-то из окружавших больных, уже привычных к тому, что в их барак помещают только надежных, проверенных товарищей.
— Очень приятно! — отозвался Морковенко, с любезной улыбкой повернувшись к вошедшему.
Они встретились с Варакиным взглядами и оба побелели. Михаил отшатнулся. На лице Морковенко изобразилось смятение. Он сидел точно пришпиленный к койке.
— Не бойтесь, не привидение! Я все еще жив, пан голова полиции! — Михаил произнес это неожиданно звучным голосом и с такой силой ненависти, что все в бараке примолкли. — Ваши памятки вбиты мне в ребра и в легкие каблуками. А вижу, и мой плевок тоже не стерся с вашей физиономии.
Читать дальше